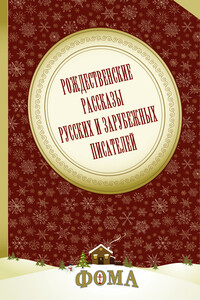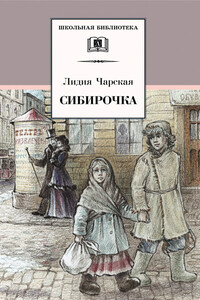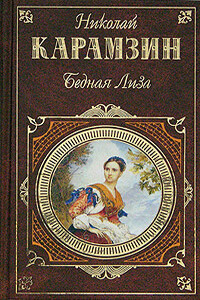А печаль у него была крупная, большая, мучительная и неизлечимая. Пятнадцать лет тому назад он встретил на своем пути хрупкую, нежную и очаровательную девушку и назвал ее своей женой. Счастье их брачной жизни было не прочно. Прелестная Екатерина Аркадьевна таила злой недуг в груди. Ее родители передали ей в наследство этот семейный недуг. Чтобы поддержать эту хрупкую жизнь, князь Гарин увез жену за границу. Там она тянула десять мучительных лет, чтобы растаять, умереть на одиннадцатом. За год до смерти своей, молодая еще, двадцатисемилетняя княгиня, не имея собственных детей, привязалась к маленькой японочке-сироте, которую они с мужем подобрали на улице. Это было в Токио, столице Японии, в стране «Восходящего солнца». Малютка Хана, княжеский приемыш, так привязалась к умирающей, так полюбила княгиню, что перед смертью молодая женщина умоляла мужа оставить у себя девочку, перевезти ее в Россию, лелеять и холить, как родную дочь. И князь Гарин без малейшего колебания исполнил просьбу обожаемой супруги. Княгиня Екатерина Аркадьевна умерла под кровом далекого восточного неба… Там, на берегу Тихого океана, потерявшийся от горя и отчаяния князь, ухватился как утопающий за соломинку — за свою последнюю привязанность на земле, оставшуюся ему в наследство после княгини, — за маленькую еще тогда семилетнюю японочку Хану. Благодарный и тронутый ее рабским обожанием покойной воспитательницы князь Гарин, в свою очередь, как родной отец, привязался к девочке. О ней думал он и теперь, сейчас, вместе с мыслями о доброй, милой Лике, сидя в своем огромном кабинете, с потухшею сигарою в руке.
Внезапный легкий стук в дверь вывел князя из его глубокой задумчивости. Он спросил по-французски:
— Ты, Хана? Войди, малютка!

Портьера зашевелилась и между двумя половинками тяжелых бархатных драпри появилась странная, маленькая фигурка, совсем молоденькой девочка в голубом, расшитом цветными шелками по лазурному фону, кимоно,[9] особенный род платья, какие носят японки. Вошедшая была еще совсем ребенком. Она казалась крошечной куколкой с ее прелестным, как бы фарфоровым личиком, по которому то здесь, то там ясно и отчетливо проступали голубые жилки; с черными кротко-шаловливыми глазками и с алым ротиком, похожим на два маковые лепестка. Ее изжелта-белое личико напоминало своим цветом цвет слоновой кости. Высокий, розовый оби (шелковый пояс) с золотыми шнурами на концах был завязан громадным щегольским бантом на узкой тонкой спине этой маленькой куколки; из-под распахивающихся пол халатика-кимоно выглядывали крошечные ножки девочки, обутые в щегольские, шитые золотом европейские туфельки, на голове вздымалась высокая прическа из блестящих, словно глянцем покрытых волос, прическа, обильно снабженная всевозможного рода черепаховыми гребнями, золотыми ободками и металлическими стрелами и шарами. Руки этого миниатюрного создания были почти сплошь унизаны бесчисленными браслетами и запястьями, которые при каждом движении производили металлический звон.
Ее можно было бы свободно принять за семилетнюю по росту, хотя Хане было уже от роду двенадцать лет.
— Здравствуй, papa Гари! — проговорила она едва понятно по-русски. (Этому языку выучил ее князь). И, подбежав к отцу, вскарабкалась на ручку его кресла.
— А ты опять по-своему оделась, Хана! Зачем? Сколько раз я просил тебя, дитя мое, приучаться к нашему европейскому платью, — недовольно нахмурив брови, но скорее печально нежели строго, произнес князь, бросив беглый, проницательный взгляд на прелестный костюм японочки.
— Так ты никогда не приобретешь европейский образ, моя девочка.
— Но ведь Хана надела же русские сапожки, — засмеялась звонким совсем детским смехом, похожим на шелест весеннего ветерка, Хана, забавно ломая и коверкая слова. — Гляди! они золотые, точно желтые хризантемы нашей страны. А если бы и так, — прибавила она с лукавой усмешкой, — а если бы и так! Хана не любит русского платья, в нем тесно, неудобно; у себя в Токио Хана его же не носила никогда.
— Но у себя Хана была маленькой дикаркой. А теперь, когда Хана в России, ей надо вести себя иначе, — с улыбкой проговорил князь, ласково гладя блестящую, черную головку своей воспитанницы.
— А papa Гари разве едет сегодня куда-нибудь? — с любопытством, понятным ее возрасту, осведомилась японочка, не отвечая на замечание отца.
— Нет, твой papa проведет с тобою вечер, будет читать тебе книжку и учить тебя русской азбуке, — печально и ласково говорил князь. Таким печальным и ласковым он был всегда со дня смерти любимой жены, в лице которой лишился большого друга.
— Вот славно! — обрадовалась Хана и даже, подпрыгнув на своем месте, захлопала в крошечные ладоши, причем все ее бесчисленные браслеты зазвенели еще музыкальнее и звонче на ее руках. — А потом Хана споет тебе песенку о красавице-мусме (девушке), взятой морем? Хорошо, papa Гари? Хочешь, папа Гари? Да?
— Нет! Не пой мне сегодня, Хана! Мне не до песен, моя малютка.
— Ты опять скучаешь по маме Кити? ты болен? — уж тревожно спрашивала маленькая японочка, подняв свои тоненькие, словно выведенные кисточкой с тушью брови и делаясь уже совсем похожей на маленького ребенка с этим, замечательно шедшим к ней, наивно-милым выражением лица.