Основы органического мировоззрения - [3]
Наиболее прогрессивное, в лучшем смысле этого слова, течение в современной гносеологии - это интуитивизм, получивший свое самое яркое и четкое выражение в трудах Бергсона, Лосского, Шелера и др. Не наивно возрождая ценное ядро наивного реализма, интуитивизм учит в то же время о духовных предпосылках знания. Именно интуитивизм вывел гносеологию из безвыходного тупика «мира как представления»[6], в который она была заведена Юмом и Кантом. Поэтому гносеологические проблемы будут изложены нами в духе интуитивизма. (Родственными интуитивизму являются интенционализм Брентано и феноменология Гуссерля[7], останавливающиеся, однако, на полпути к взыскуемой ими объективности знания.)
Итак, гносеология есть корень философии, невидимый для тех, кто интересуется ею, так сказать, со стороны. Видимым же цветком философии, ее центральной дисциплиной является метафизика или, по более точной терминологии, онтология - учение о бытии, о сущности явлений, учение о принципах сущего. И так как познание по своей природе направлено на сущее как на искомое и лишь в порядке рефлексии на самое себя, то именно в онтологии заключается главный пафос философии. С полным правом поэтому онтология называлась раньше «первой философией» - philosophia primal[8]
Мировая философия пережила три главных периода расцвета онтологии: классический идеализм древности (Платон, Аристотель), докантовские догматические системы (Декарт, Спиноза, Лейбниц) и германский идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель).
Но, начиная с середины прошлого века, под влиянием успехов естественных наук (вернее, некритического восприятия этих успехов) онтология, а с нею и философия вообще, пришла в упадок. Так, основатель позитивизма Конт считал ее продуктом изжитой «метафизической» стадии человеческого мышления[9]. Из царицы наук философия превратилась в их служанку. Тон выражения: «ну, это уже метафизика» - выдает установившееся полупрезрительное отношение к философии.
Ибо, поскольку основным методом метафизики является умозрение, а единственным источником познания (в духе позитивизма) признается чувственный опыт, естественно, что метафизика может рассматриваться лишь в качестве продукта отвлеченной и бесплодной фантазии. Естественно, что само слово «метафизика» приобрело смысл духовной реакции, умственного ретроградства. При этом, с точки зрения последовательного позитивизма, осуждению должна была бы подвергнуться как идеалистическая, так и материалистическая метафизика. Однако в глазах просвещенных масс, в глазах полуинтеллигенции, этой «просвещенной черни», анафеме была предана именно идеалистическая метафизика всех родов. Материалистическая же метафизика, не осознаваемая в качестве таковой, стала новой догмой выходящих из-под церковной опеки масс. Во второй половине XIX в., если не считать немногих исключений, академическая философия ограничила себя областью гносеологического анализа априорных предпосылок точных наук, видя в этом единственное оправдание своего бытия.
По существу, это отречение от метафизики означало отказ от целостного миросозерцания, своего рода философское непредрешенчество, самокастрирование мыслящего духа. Однако с конца прошлого века начинается новое возрождение, новый ренессанс метафизики, а с ней и философии вообще. Противоположность между чувственным опытом и отвлеченным рассудком была преодолена благодаря признанию интуиции в качестве законного метода философского познания. Космос метафизики снова открылся мыслящему духу, запретная грань между бытием и сознанием была «снята». В интуитивной философии Бергсона, интуитивизме Лосского, эмоциональном интуитивизме Шелера этот метод познания получил свое гносеологическое оправдание и обоснование.
Сейчас не время говорить о новых методах новой метафизики, о выводах, к которым она приходит, о новых проблемах, которые она ставит. Этой теме посвящена вторая, центральная часть нашего труда. Скажем лишь пока, что новая метафизика видит в опыте не своего врага, а союзника, расширяя самое понятие опыта за пределы чисто чувственной его сферы. Она стремится преодолеть механистические навыки рассудка, усматривая интуитивность и целостность разума. Новая метафизика не укладывается более в прокрустово ложе учения о субстанции (материальной или духовной), она стремится понять мир как органическое целое различных пластов бытия. Она учит о градуальности, иерархичности мира по ступеням: материальное, биоорганическое, психическое и духовное бытие. В человеческой личности явлен живой синтез всех слоев бытия, она есть, по словам Державина, «связь миров повсюду сущих, черта начальна Божества»[10]. Неуловимый центр личности - «я» - осознается в современной философии как подлинно метафизическое начало в человеке.
Поэтому в современной философии человеческая личность занимает одно из центральных мест по своему онтологическому значению. В последнее время наука о человеке как о целом - так называемая философская антропология - все более выдвигается в качестве самостоятельной философской дисциплины. (В этом направлении развивается и популярная в настоящее время «экзистенциальная философия» Ясперса, Хайдеггера и Сартра.)
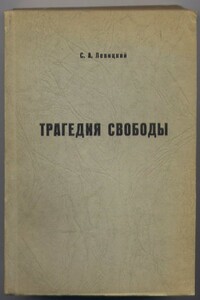
С. А. Левицкий (1908—1983) принадлежит к видным философа русского зарубежья, он был учеником и последователем Н. О. Лоского. В своей книге, которая впервые издается в России, он всесторонне исследовал проблему свободы. В приложении публикуют статьи разных лет, в которых Левицкий показал себя талантливы публицистом и тонким литературным критиком.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.