Основные феномены человеческого бытия - [2]
Так называем пятый из основных феноменов человеческого существования. Если он назван последним, то не потому, что является "последним" в иерархическом смысле -- менее значительным и весомым, нежели смерть, труд, господство и любовь. Игра столь же изначальна, как и эти феномены. Она охватывает всю человеческую жизнь до самого основания, овладевает ею и существенным образом определяет бытийный склад человека, а также способ понимания бытия человеком. Она пронизывает другие основные феномены человеческого существования, будучи неразрывно переплетенной и скрепленной с ними. Игра есть исключительная возможность человеческого бытия. Играть может только человек. Ни животное, ни бог играть не могут. Лишь сущее, конечным образом отнесенное к всеобъемлющему универсуму и при этом пребывающее в промежутке между действительностью и возможностью, существует в игре. Эти "тезисы" нуждаются в пояснении, так как на первый взгляд противоречат привычному жизненному опыту. Каждый знает игру, это совершенно знакомое явление. Но, по Гегелю, знакомое еще не есть познанное [4]. Как раз то, что кажется нам привычным и само собой разумеющимся, порой наиболее упрямо ускользает от какого бы то ни было понятийного постижения. Каждый знает игру по своей собственной жизни, имеет представление об игре, знает игровое поведение ближних, бесчисленные формы игры, знает общественные игры, цирцеевские массовые представления, развлекательные игры и несколько более напряженные, менее легкие и привлекательные, нежели детские игры, игры взрослых; каждый знает об игровых элементах в сферах труда и политики, в общении полов друг с другом, игровые элементы почти во всех областях культуры. Home ludens неотделим от homo faber и homo politicus. Игра есть такое измерение существования, которое многочисленными нитями сплетено с другими измерениями. Всякий человек играл и может высказаться об игре, опираясь на собственный опыт. Чтобы сделать игру предметом размышления, ее не нужно привносить откуда-либо извне: сообразно с обстоятельствами мы обнаруживаем, что вовлечены в игру, мы накоротке с этой ключевой возможностью даже тогда, когда на самом деле не играем или полагаем, что давно оставили позади игровую стадию своей жизни. Каждому известно несчетное число игровых ситуаций в частной, семейной и общественной сферах. Они изобилуют игровыми действиями, которые суть повседневные события и происшествия в человеческом мире. Никому игра не чужда, всякий знает ее по свидетельству собственной жизни. Будничная привычность игры, однако, зачастую препятствует более глубокой постановке вопроса о сущности, бытийном смысле и статусе игры. Такая привычность совершенно заслоняет вопрос о том, действительно ли и в какой мере игровое начало человека определяет и оформляет его понимание бытия в целом. Будничная привычность игры чаще всего остается без вопросов благодаря будничному толкованию игры. В качестве основного феномена, игра обладает структурой истолкованности. И это толкование не сводится к примеси частного или общественного сознания, которая могла бы и отсутствовать. Основные Экзистенциальные феномены -- не просто бытийные способы человеческого существования: они также и способы понимания, с помощью которых человек понимает себя как смертного, как трудящегося, как борца, любящего и игрока и стремится через такие смысловые горизонты объяснить одновременно бытие всех вещей.
Что же характеризует будничное толкование человеческой игры? Не что иное, как попытку вытеснить игру из сущностного центра человеческого бытия, лишить ее сути, понять ее как "пограничный феномен" нашей жизни, забрать у нее весомость и подлинное значение. Хотя очевидны частота игровых действий, интенсивность, с какой предаются игре, ее растущая оценка в связи с возрастанием свободного времени в технизированном обществе, по-прежнему в игре принято усматривать прежде всего "отдых", "расслабление", времяпрепровождение и радостную праздность, благотворную "паузу", прерывающую рабочий день или присущую дню праздничному. Там, где толкование игры исходит из ее противопоставления труду или вообще серьезности жизни, там мы имеем дело с наиболее поверхностным, но преобладающим в повседневности пониманием игры. Игра при этом считается неким дополнительным феноменом, чем-то несерьезным, необязательным, произвольно-самовольным. Даже признавая, что игра имеет власть над людьми и своим очарованием прельщает их, игру все же не рассматривают с точки зрения ее позитивного значения и неверно толкуют как некую интермедию между серьезными жизненными занятиями, как паузу, как наполнение свободного времени. Сказанное о будничном толковании игры, которое ее умаляет, относится прежде всего к жизни взрослых. Играют -- да ведь только между делом, шутки ради, для разлечения, времяпрепровождения, ради того, чтобы на время выпрячься из кабалы труда, а может даже и с терапевтическими целями: расслабиться, восстановиться, отстраниться от серьезности жизни -- игрой пользуются как сном. Считается, что реальность взрослой жизни -- решения, решения моральные и политические, тягость труда, острота борьбы, ответственность за себя и за близких. Будто бы только ребенку пристало жить игрой, проводить часы в радостной беззаботности, попусту расточать время. Счастье детства, блаженство игры -мимолетны, как мимолетен этот период времени нашей жизни, когда мы еще имеем время, потому что еще не знаем о нем, еще не видим в "теперь" "уже", "никогда больше" и "еще не", когда наша жизнь мчит в глубоком и неосознанном настоящем, когда жизненный поток увлекает нас, не ведающих о течении, стремящемся к нашему концу. Чистое настоящее детства и считается обычно временем игры. Играет ли по-настоящему и в подлинном смысле слова только дитя, а во взрослой жизни присутствуют лишь какие-то реминисценции детства, неосуществимые попытки "повторения",-- или же игра остается основным феноменом и для других возрастов? Понятие "основной феномен" не подразумевает требования, чтобы явленный образ человеческой жизни непременно и непрестанно выказывал какой-то определенный признак. Вопрос о том, является ли игра основным экзистенциальным феноменом, не зависит от того, играем ли мы постоянно или же только иногда. Основным феноменам вовсе не обязательно проявляться всегда и во всех случаях в виде какой-то постоянной документации. Да это и не необходимо -- чтобы они "могли" проявляться непрестанно. То, что определяет человека как существо временное в самом его основании, вовсе не должно происходить в каждый момент "теперь" его жизни. Смерть все же расположена в конце времени жизни, любовь -- на вершине жизни, игра (как детская игра) -- в ее начале. Подобная фиксация и датировка во времени упускает то, что основные экзистенциальные феномены захватывают человека всецело. Смерть -- не просто "событие", но и бытийное постижение смертности человеком. Так и игра: не просто калейдоскоп игровых актов, но прежде всего основной способ человеческого общения с возможным и недействительным. Мы начинаем с краткого анализа игрового поведения, то есть занятия игрой. Из-за своей краткости и сжатости этот анализ может показаться абстрактно-формальным, но выводимые структуры каждый может, учитывая определенные единичные случаи, проверить на самом себе. При различении "структуры" и "единичного случая" последний принято обозначать как пример (Bei-Spiel) структуры. Многоразличное, в котором утверждается структура, понимается как случайное, привнесенное игрой случая. Отношение постоянного к изменчивому, необходимого к случайному, достаточно примечательно характеризуется метафорой игры, причем поначалу должен оставаться открытым вопрос о том, является ли применение идеи игры к онтологическим отношениям неосмотрительным "антропоморфизмом" или же оно выводимо из самого предмета размышления. Каковы же существенные черты человеческой игры? Мы начинаем с формы исполнения. Игра -- это импульсивное, спонтанное протекающее вершение, окрыленное действование, подобное движению человеческого бытия в себе самом. Но игровая подвижность не совпадает с обычной формой движения человеческой жизни. Рассматривая обычное действование, во всем сделанном мы обнаруживаем указание на конечную цель человека, на счастье, эвдаймонию. Жизнь принимается в качестве урока, обязательного задания, проекта; у нас нет места для отдыха, мы воспринимаем себя "в пути" и обречены вечно быть изгнанными из всякого настоящего, увлекаемыми вперед силой внутреннего жизненного проекта, нацеленного на эвдаймонию. Мы все неустанно стремимся к счастью, но не едины во мнении, в чем же оно заключается. В напряжении нас держит не только беспокойный порыв к счастью, но и неопределенность в толковании "истинного счастья". Мы пытаемся заработать, завоевать, за-любить себе счастье и полноту жизни, но нас постоянно влечет за пределы достигнутого, всякое доброе настоящее мы жертвуем неведомому "лучшему" будущему. Хотя игра как играние есть импульсивно подвижное бытие, она находится в стороне от всякого беспокойного стремления, проистекающего из характера человеческого бытия как "задачи": у нее нет никакой цели, ее цель и смысл -- в ней самой. Игра -- не ради будущего блаженства, она уже сама по себе есть "счастье", лишена всеобщего "футуризма", это дарящее блаженство настоящее, непредумышленное свершение. Никоим образом это не исключает того, чтобы игра содержала в себе моменты значительного напряжения, как, например, игра-состязание. Но игра, со своими волнениями, со всей шкалой внутреннего напряжения и проектом игрового действия, никогда не выходит за свои пределы и остается в себе самой. Глубокий парадокс нашего существования состоит в том, что в своей продолжающейся всю жизнь охоте за счастьем мы никогда не настигаем его, никого нельзя перед смертью назвать счастливым в полном смысле слова, и что мы тем не менее, оставив на мгновение свое преследование, нежданно оказываемся в "оазисе" счастья. Чем меньше мы сплетаем, игру с прочими .жизненными устремлениями, чем бесцельней игра, тем раньше мы находим в ней малое, но полное в себе счастье. Дионисийский дифирамб Ницше "Среди дочерей пустыни" [5], зачастую недооцениваемый и неправильно толкуемый, воспевает как раз чары и оазисное счастье игры в пустыне и бессмысленности современного бытия, порождаемых обесцениванием некогда высших ценностей. Игра не имеет "цели", она ничему не служит. Она бесполезна, и никчемна: она не соотнесена с какой-то конечной целью -конечной целью человеческой жизни, в которую верят или которую провозглашают. Подлинный игрок играет ради того, чтобы играть. Игра -- для себя и в себе, она более, нежели в одном смысле, есть "исключение".
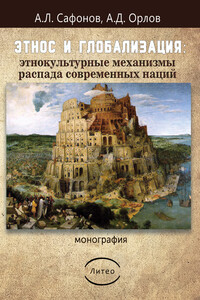
Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.
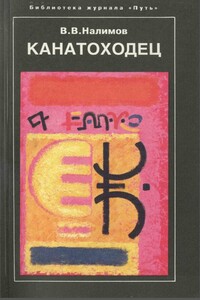
Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.
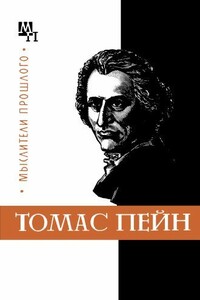
Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.