Осип Мандельштам. Философия слова и поэтическая семантика - [12]
Разница с соссюрианской концепцией слова заключается в том, что Мандельштам вводит в «семантический треугольник» Ф. де Соссюра еще одну «грань» – «вещность», «предметную значимость», устанавливая между нею и «словом» некую опосредованную связь, посредником при этом служит «внутренняя форма» (а для стихотворения, стало быть, – «внутренний образ»).
Поэт выстраивает логическую цепочку, доказывающую, что вещь не является «хозяином слова», а взаимоотношения между словом и вещью аналогичны отношениям, связывающим тело и душу. Отсюда авторская метафора «слова-Психеи» и разъяснение: «Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость» (2, 171). Поскольку слово, вторгаясь в область онтологии, становится бытийственным феноменом, то оно обретает аксиологическую значимость, и по отношению к слову все люди, по Мандельштаму, делятся на «друзей и врагов слова» (2, 169). В числе друзей слова Мандельштам утопически желает видеть государство, обосновывая свое чаяние тем, что именно «культурные ценности окрашивают государственность, сообщают ей цвет, форму, и, если хотите, даже пол» (2, 169).
Подобный ход мысли объясняется тем, что новые социокультурные явления должны получить имя, материализоваться в слове, и в таком случае слову принадлежит, согласно Мандельштаму, функция хранения и страхования культурно-исторических (в том числе – государственных) ценностей от разрушения времени. Таким образом, уже в статье «Слово и культура» закладывается концепция слова как хранителя истории, которая будет развита впоследствии.
Но Мандельштам не ограничивается здесь только констатацией взаимоотношений слова как «репрезентанта культуры». Он обращается также и к поэтическому слову, определяя сущность поэзии в эпохи великих перемен как «плуга, взрывающего землю так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» (2, 169). Более того, Мандельштам приходит к парадоксальной мысли, что революция, поскольку она взрывает «глубины времен», в конце концов доходит до цельного, неразделенного времени, что в поэзии означает возвращение к классическим образцам, ибо «революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму» (2, 169). Под классическими образцами Мандельштам однозначно понимает некие архетипические образы и сюжеты, которые, по его мнению, существуют до их временного развертывания в искусстве, и здесь, на наш взгляд, его рассуждения вписываются в платоновскую идею о существовании идеальных образов и их «вещественных» воплощений. Мандельштам пишет: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяют исторический Овидий, Пушкин, Катулл» (2, 169).
Что же получается? Реально существующие Пушкин, Овидий и Катулл, по мнению поэта, в новую эпоху должны и зазвучать по-новому – зазвучать посредством другого художника и тем самым довоплотиться, то есть обрести свою подлинную вневременную сущность. Отсюда и изменение функции слова, метафорически обозначенной Мандельштамом как «глоссолалия»: «Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков» (2, 172). Таким образом, слово, по Мандельштаму, в исторически переломные эпохи, подобно современной ему, вбирает в себя значения, приобретенные в предшествующие периоды своего бытования.
На образном уровне это проявляется не столько в феномене вечного возвращения (в духе Ницше), сколько в угадывании, то есть в моделировании архетипических образов, идеальные формы которых уже отражались ранее в «зеркалах» искусства. Отсюда апелляция к классической поэзии, к античным (мифопоэтическим) структурам как к неким извечным (архетипическим) формам поэтики. Не потому ли Мандельштам призывает: «Не стоит создавать никаких школ. Не надо выдумывать своей поэтики» (2, 170)?
Знаменательно, что свои рассуждения о природе слова в одноименной статье Мандельштам начинает с вопроса о единстве русской культуры, поставленного еще в статье «Скрябин и христианство». Здесь же предметом его внимания является единство русской литературы, особенно актуальное в «вихре перемен и безостановочном потоке явлений» (2, 173).
Критерий единства русской литературы, как всякой национальной литературы, лежит в области языка, поскольку язык при всех своих постоянных изменениях «остается постоянной величиной, «константой», остается внутренне единым» (2, 175). Причем внутреннее единство Мандельштам понимает как динамическое единство, позволяющее вбирать в себя чужеродные элементы, примеси, инородные влияния и прививки, как бы переплавляя, «одомашнивая» их. Русский язык, по мнению Мандельштама, – залог единства таких разнопорядковых и разнесенных во времени вещей, как «Слово о полку Игореве» и поэзия Велимира Хлебникова. Отсюда – работу со «Словом» поэт воспринимает как высокую миссию, служение. При этом в условиях «катастрофы русской истории» закономерно возникает сверхзадача сохранение языка как духовного эквивалента культуры.

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
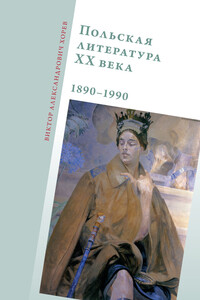
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
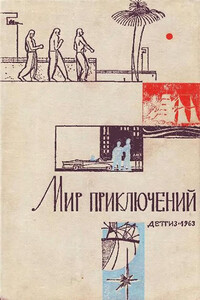
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
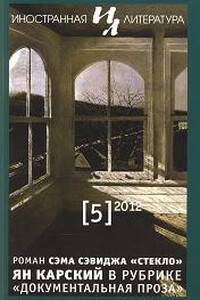
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.
