Ошибка Оноре де Бальзака - [12]
— А, Леон?! Умел?!
Леон только заморгал глазами. О чем барин спрашивает? Но тут же подтвердил:
— Да, мусью!
— Да! — Бальзак смеялся и задорно подталкивал Леона локтем в бок.
В Бродах остановились позавтракать. Корчма была полна людей, но стараниями Леона все устроилось надлежащим образом. Бальзак, отдуваясь, пил молоко и, в перерывах между глотками, спрашивал у Леона, как по-русски стол, окно, дверь, шляпа… Леон учил его с решимостью, достойной удивления.
— А лямур? — спросил Бальзак.
Леон задумался. Он-то хорошо знал, что такое амур. Стрелы амура давно уже пронзили его сердце. Но как объяснить это французу? Леон даже вспотел. Бальзак допил молоко и не торопился. Он улыбаясь смотрел на своего проводника. В конце концов, этот верзила нравился ему все больше. И вдруг Леон показал пальцем на свое сердце и, покраснев, сказал:
— Тут лямур.
Бальзак перестал улыбаться. В открытом взгляде парня он прочитал что-то похожее на отражение своих собственных переживаний.
Когда усаживались в карету, человек в сером картузе, в запыленной свитке, подпоясанный красным кушаком, почтительно спросил у Леона:
— Что за барин?
— Лучше его и на свете нет, — решительно ответил Леон, твердо убежденный в верности своих слов.
Равновесия и хорошего настроения хватило лишь до Дубна. После ночи, проведенной на почтовой станции, в душной комнате под пуховой периной, после обложных оловянных туч и первого дождя, встретившего карету при выезде из Дубна, Бальзак помрачнел, и морщины, прорезав высокий лоб, больше уже не разглаживались. Леон отодвинулся в угол кареты. Кто знает? Может быть, он чем-нибудь досадил барину? Может быть, дерзко повел себя? Если так, не миновать ему гнева пани Ганской и плетей на конюшне… Не скажешь ведь об этом иноземному барину, который, как известно Леону, пишет большие книги; многие из этих книг побывали в руках Леона, когда там, в Крейцнахе, пани Ганская поручила ему спрятать их в чемодан перед отъездом.
— Спой, Леон, — предложил вдруг Бальзак. — Спой. — И он утомленно закрыл глаза.
Выходит, он не гневался на Леона. Выходит, его беспокоит иное. И, не отдавая себе отчета в своей отваге, Леон затянул песню о стройной девушке и о храбром парне, об их несчастной, безысходной любви… Невдомек было Бальзаку, что Леон пел о себе, только не о Леоне, а о Левке, как звали его в имении все, кроме господ, как звали его отец и мать, сложившие головы на барщине и оставившие ему только сиротскую долю на рабских хлебах.
В песне была тоска, тревога и горечь, и эта тоска вошла в сердце Бальзака острием булата. Леон давно умолк, а тоска все не исчезала. Нет, не легко переступить через собственную совесть, совесть — не привычный щербатый порог. Легкомысленно было думать так. Неосторожно. Но впервые ли он совершал неосторожности?! Эвелине сама судьба дала возможность измерить широту размаха его крыльев, думал Бальзак. Если она понимает это, все будет хорошо. А она не может не понимать. Как живое, видел он перед собой знакомое лицо, проницательные глаза, полные губы и спокойные, удивительно спокойные мраморные руки. И, может быть, только теперь, в дороге, на пути между Дубном и Житомиром, он впервые подумал о дивной власти этих спокойных, холодных рук, в которые он бросил маленький комочек — свое изувеченное невзгодами, страданиями и порывами сердце.
…После ночи в придорожной корчме, где его внимание привлекла черноглазая корчмарка и льстивый банкир чем-то напоминал ему плута Госслена, он попробовал привести свои мысли в порядок. Но не так легко дать совет себе самому. Леон уже пересел из кареты на козлы. Они приближались к Верховне, и все становилось на свое место. Да и Бальзак больше как будто не нуждался в собеседнике. Чем меньше оставалось им ехать до Верховни, тем сильней разрывала сердце тревога. Цель уже обозначилась на сером горизонте, но путь до нее был крут, и проворный однорукий солдат, поднявший шлагбаум при въезде в Бердичев, показался лишь вещей вехой на этом пути.
Краткий отдых в доме Гальперина, получасовая прогулка по грязным, кривым уличкам города в сопровождении замурзанной любопытной детворы, в течение нескольких минут молчаливый осмотр строгих стен монастыря босых кармелитов, мелодичный перезвон, доносящийся с колокольни костела, тарахтенье длиннющих мажар по узкой мостовой и справа, в полушаге позади, неотступный, готовый к услугам господин Гальперин — вот и весь Бердичев. Можно трогаться. Нет, он не собирается отдыхать. Довольно. Сегодня он должен быть в Верховне. Его ждут.
— О да, мсье, там очень ждут.
Гальперин может это подтвердить. Он провожает низким поклоном не только Бальзака, но и карету, которую на этот раз легко, как перышко, выносят на старый гетманский тракт быстрые, норовистые верховненские лошади.
При выезде из города снова шлагбаум, и снова старый солдат в фуражке без козырька одним движением отбрасывает его вверх. Путь свободен. Но в эту минуту долговязый монах в желтой рясе, потупясь, неторопливо переходит дорогу.
Бальзак с сердцем трижды плюет через левое плечо и трижды берется за пуговицу. Эти меры призваны обезвредить дурную примету.

Историческая эпопея Натана Рыбака (1913-1978) "Переяславская рада" посвящена освободительной войне украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого, которая завершилась воссоединением Украины с Россией.
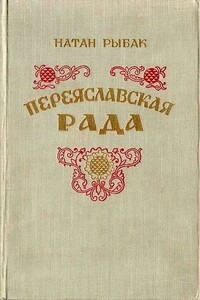
Историческая эпопея «Переяславская рада», посвящена освободительной войне украинского народа под водительством Богдана Хмельницкого, которая завершилась воссоединением Украины с Россией. За эпопею «Переяславская рада» Н. С. Рыбак удостоен Государственной премии СССР.
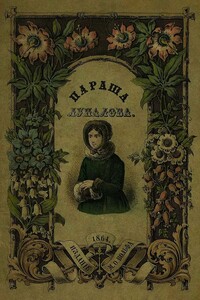
История жизни необыкновенной и неустрашимой девушки, которая совершила высокий подвиг самоотвержения, и пешком пришла из Сибири в Петербург просить у Государя помилования своему отцу.
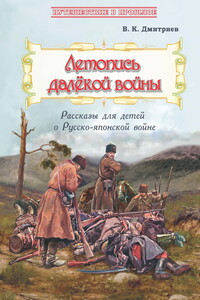
Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут юного читателя в начало XX века. Она посвящена событиям Русско-японской войны. Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, но будут интересны и взрослым.

История борьбы, мечты, любви и семьи одной женщины на фоне жесткой классовой вражды и трагедии двух Мировых войн… Казалось, что размеренная жизнь обитателей Истерли Холла будет идти своим чередом на протяжении долгих лет. Внутренние механизмы дома работали как часы, пока не вмешалась война. Кухарка Эви Форбс проводит дни в ожидании писем с Западного фронта, где сражаются ее жених и ее брат. Усадьбу превратили в военный госпиталь, и несмотря на скудость средств и перебои с поставкой продуктов, девушка исполнена решимости предоставить уход и пропитание всем нуждающимся.
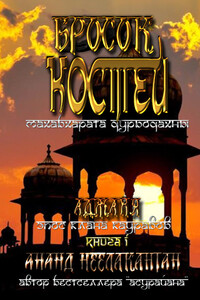
«Махабхарата» без богов, без демонов, без чудес. «Махабхарата», представленная с точки зрения Кауравов. Все действующие лица — обычные люди, со своими достоинствами и недостатками, страстями и амбициями. Всегда ли заветы древних писаний верны? Можно ли оправдать любой поступок судьбой, предназначением или вмешательством богов? Что важнее — долг, дружба, любовь, власть или богатство? Кто даст ответы на извечные вопросы — боги или люди? Предлагаю к ознакомлению мой любительский перевод первой части книги «Аджайя» индийского писателя Ананда Нилакантана.

Рассказ о жизни великого композитора Людвига ван Бетховена. Трагическая судьба композитора воссоздана начиная с его детства. Напряженное повествование развертывается на фоне исторических событий того времени.
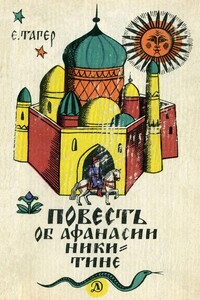
Пятьсот лет назад тверской купец Афанасий Никитин — первым русским путешественником — попал за три моря, в далекую Индию. Около четырех лет пробыл он там и о том, что видел и узнал, оставил записки. По ним и написана эта повесть.