Осенние дожди - [17]
Когда недели через две я попытался воспроизвести в дневнике дальнейшие события этого первого дня, оказалось, что все слилось в моей памяти в какой-то нескончаемый, бессвязный поток впечатлений. Так хлещут весенние реки, выходя из берегов и неся на себе все: бревна, подмытые кусты, пену, опрокинутые собачьи будки, пустые бочки... Из потока воспоминаний память выхватывает лишь разрозненные мгновения, обрывки недослушанных фраз, какие-то вспышки огня, мазки неверного света.
Помню, как в барак ворвался Борис. Почему-то он был без шапки, влажные волосы прилипли ко лбу. Он возбужденно дышал.
— Давай, Серега, по-быстрому! — еще с порога выдохнул он, мокрым рукавом размазывая воду по лицу.— Всех на дамбу...
— Что стряслось? — вскочил Шершавый, нашаривая под кроватью сапоги.— Прорвало?
— Фига! Ни черта с твоей дамбой не станется. Там людей в воду смыло,— Борис ожесточенно сплюнул.— Дофасонился, гад, догеройствовался, сектант!
Сергей охнул и на мгновение — всего только на мгновение — опустился на кончик стула.
— Да ты что?!
— А я-то при чем тут? — Борис снова рукавом мазнул по лицу.— Давай, давай!
Значит, этот Маркел все-таки вывел людей на работу? Не глядя на дождь? Мне вспомнилось, как Лукин утром говорил: Маркел беспощаден, ради задуманного он никого не пожалеет.
— Не-ет, это надо ж придумать: Маркела спасать! — вдруг рассмеялся Шершавый, а сам уже на ходу просовывал руки в рукава так и не просохшего плаща, искал взглядом фуражку.
— Я тоже пойду,— сказала Анюта, но он ей и договорить не дал:
— Останешься здесь.
Девушка пыталась что-то возразить, но Серега с неожиданной грубостью заорал на нее:
— Сказано, сиди дома!
— Стойте, и я с вами,— поднялся я, но Серега даже не посмотрел в мою сторону. Борис попытался меня урезонить:
— Куда вам, Алексей Кирьянович? С вашей-то ногой.
— А-а, ни черта! Пошли...
Вот, собственно, и все, что я помню более или менее отчетливо. Дальше был хаос, в котором все перемешалось и словно бы опрокинулось на меня.
Помню рыжую, с холодным металлическим блеском, глину оползающего берега. Я не сразу сообразил, что берег оползает, уходит из-под моих ног: сначала глина поползла медленно, потом все быстрее, быстрее; и только после того, как за моей спиной раздался отчаянный женский крик, я опамятовался.
Помню лохматую, в кипящих пузырьках пены ливневую воду в горловине дамбы: сначала она была вроде далеко от меня, а тут вдруг кинулась под самые ноги.
Помню береговые фонари, словно невидимой рукою раскачиваемые на качелях железных тросов; и полосы света от них — свет скользил по берегу, по лицам, по яростно ревущей воде.
И стон, и рев, и крики — все это сливалось в одно неотвратимое, страшное...
И внезапная тишина. Такая тишина, что она больно ударила в ушные перепонки и тысячами иголочек вонзилась в мозг. Сразу после этого в голове застучал равнодушный метроном, отчетливый и резкий.
Такое со мной уже было однажды.
Я тогда полз по снегу, волоча искалеченную ногу. В первой половине дня было потепление, потом — ближе к вечеру — ударил мороз и образовался хрупкий наст. Словно снег укрыли тонким ломающимся под руками стеклом. Я полз и резал об него руки. Проваливался и все-таки полз, почему-то повторяя вслух одно и то же:
— Ч-черта с два! Ч-черта с два!..
Пытаясь впоследствии вспомнить, о чем же я думал тогда, с удивлением констатировал: ни о чем. Вообще ни о чем. Черные провалы.
— Ч-черта с два! Ч-черта с два!..
Иногда возникало и тут же исчезало чувство недоумения. Ладони уже давно были сплошь в запекшейся крови, и под ногтями кровь, па пальцах и суставах — тоже кровь; лоскутья рваной кожи тут и там закрутились пергаментом — мороз!
А боли не было.
От каждого моего движения на снегу оставались ржавые пятна; бесконечная цепочка ржавых пятен там, где я прополз по ломкому насту.
А боли не было!
Я полз, и надсадный кашель душил меня, и я чувствовал, что с каждой минутой мне делается все страшнее. Не оттого, что я боялся замерзнуть — один, в зимней тайге, орошенный спутником. И не оттого, что я распластан на искровавленном снегу и — кто знает, может, вот так, мало-помалу — истеку кровью. Скорее всего, об этом я тогда даже и не думал. Страшно мне было оттого, что не хватало воздуха, что он не шел в легкие, будто где-то внутри меня что-то наглухо закрылось: я его пытался втянуть в себя, а он не шел, не шел, не шел!
И тогда я понял, что вот это, наверное, и есть самое страшное, что вообще может случиться с человеком.
Я полз, и терял сознание, и понимал, что теряю его, и снова приходил в себя, с пронзительной отчетливостью осознавая безвыходность своего положения,— и все же полз.
Сколько это продолжалось? Куда я полз? Какое было время суток: день, ночь, утро?
Деревья, со всех сторон обступившие меня и отсюда, снизу, от земли, казавшиеся неправдоподобно высокими, и тихим звоном осыпали меня колючим новогодним инеем.
Это было не среднерусское редколесье, где даль просматривается меж стволами, и не сибирское раздолье сосновых лесов, благовестно тихих и чистых, будто выметенных со старательностью. Нет, это была дальневосточная тайга, с буреломом и оврагами, с оползнями каменистых склонов и яругами, доверху набитыми снегом, с жестяным звучанием неопавших листьев монгольского дубняка. Тайга цепенеюще беззвучная, без пения птиц, без переклички зверья, без людских голосов. И от этой ее угрюмости мне делалось особенно не по себе.

В книгу Георгия Халилецкого (1920—1977) входят повести «Аврора» уходит в бой» и «Шторм восемь баллов». В основе повести «Аврора» уходит в бой» — документы, мемуары и дневники моряков, служивших на славном крейсере во время русско-японской войны. Автор описывает беспримерный поход русской эскадры из Балтийского моря в Тихий океан. В повести «Шторм восемь баллов» изображен один из трудных рейсов посыльного судна «Баклан». Сорок лет плавает «Баклан», выдержал не один бой, и восьмибалльный шторм для него нелегкое испытание.

В романе А. Савеличева «Забереги» изображены события военного времени, нелегкий труд в тылу. Автор рассказывает о вологодской деревне в те тяжелые годы, о беженцах из Карелии и Белоруссии, нашедших надежный приют у русских крестьян.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
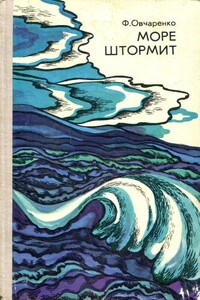
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.
