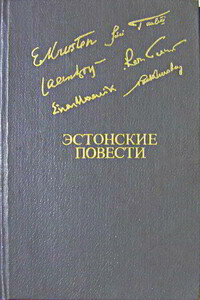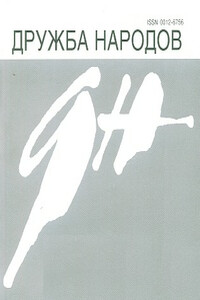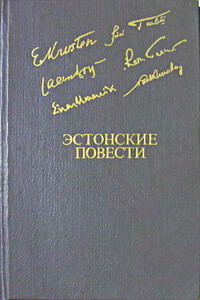Окна в плитняковой стене - [106]
Я надеюсь, или скорее надеялся, что ежели я его ловко обескуражу вопросом, то, может случиться, узнаю нечто такое, о чем у самого Зонтага спросить не решусь: как далеко собирается зайти этот в общем сметливый человек, поддерживая пробста Рота и некоторых других интриганов. И чем дольше я беседую с этим неслухом, с этим Петерсоном, тем больше мне начинает казаться, что он — не тот, кем кажется. И, черт его знает, когда я все же задаю ему этот вопрос, чтобы подобраться к главному, я даже немного боюсь, как бы он не стал уж слишком стараться с ответом… К сожалению, и слава богу, сквозь дымовую завесу своего доморощенного табака он отвечает:
— Последнее время я ничего не знаю. Потому что с последней весны я был у господина Зонтага только однажды. Сразу после того, как ушел из университета. И господин суперинтендент так строго меня за это отчитал, что я не считал возможным ходить к нему, портить ему нервы…
И по сему поводу этот малец улыбается невинной ангельской улыбкой, которая должна означать, что он великодушно прощает суперинтенденту горячность…
Я спрашиваю:
— А почему вы вдруг оставили университет?
Я чувствую, что именно за это его и следует корить, и все же не хочу этого делать, и сам сую ему в рот причину:
— Наверно, из-за недостатка денег? Как чаще всего.
Но этот верзила выплевывает мое предположение и говорит со своей ангельской улыбкой:
— О, нет. Господин суперинтендент меня и дальше поддерживал бы. Но, знаете, — я уже раньше объяснял вашей супруге, — там нечему было учиться…
— То есть как? Уже через полтора года?!
— Ну да. Ничего такого, ради чего стоило бы жить в Тарту и ходить на лекции. Ибо все, что там читается, можно найти в книгах. Тех самых, по которым учились и ваши профессора. И даже гораздо более новое, чем их болтовня, — простите меня.
— Хм. Ну, должен сказать…
— Кара, а говорил тебе этот Петерсон, что он потому оставил университет, что там нечему было учиться?
Я поднимаю на Кару глаза от своей тарелки со студнем. Кары нет. Кара вышла из-за стола. Я не заметил, когда. Я не знаю, куда. Я снова смотрю в тарелку…
— Гм. Послушайте, вы, говорят, пишете стихи на эстонском языке. Это правда? — спросил я.
— Ммм… да. Я написал на пробу около двадцати песен…
Я отодвигаю тарелку. Я поднимаюсь из-за стола. Сидящие смотрят на меня.
— Папа, куда ты? — спрашивает Анита (я зову ее теперь большей частью, как и Кара, Анитой).
— Продолжайте спокойно ужинать. Мне пришла одна идея.
Я возвращаюсь к себе в рабочую комнату. У меня нет никакой идеи. Я нахожу погасшую трубку, высекаю огонь и зажигаю ее. Я стою в комнате у окна и представляю себе, как он сидит возле моего стола, нога на ногу, в руке трубка. Я говорю:
— Вы не хотели бы прочитать какие-нибудь?
Не потому, что у меня бог знает какой пламенный к ним интерес. А все же, ежели подумать, как мало стихотворцев, пишущих на эстонском языке, не считая борзописцев из духовенства, подобных Фрею.
Он не заставляет себя долго упрашивать. Однако он не принимается и с особым восторгом извергать из себя свои песни. Он встает. Его мысли будто где-то в другом месте. Он читает мне по памяти несколько песен. Довольно бесчувственно, должен сказать. Но именно поэтому — приятно. Ибо я не терплю взволнованного тона и дрожи в голосе. Будь то на церковной кафедре или на сцене. И при чтении стихов. Все равно. Так что со стороны исполнения все это даже располагает к нему. Но, милый мальчик, это же никакие не стихи! О языке я не говорю. На слух он у тебя до удивления чист, хотя в нем встречаются некоторые глупости южного диалекта. Но я уверен, начни я твой язык читать, в нем окажется полно орфографических ошибок и странностей. Но я говорю, языка я не буду касаться. Но сами стихи. В них нет ни рифмы, ни толкового размера! Конечно, я знаю: Давид, Соломон, Оссиян[211], Клопшток… Однако, господин Петерсон, дитя мое, разве можно рядом с ними говорить о тебе?! А? Разве ты сам сможешь себя поставить рядом с ними так, чтобы при этом не покраснеть? За их спиной — тысячелетия, целые культуры… А у тебя?! Ну да, эта соломенная подстилка, что у тебя за спиной, — я думаю о скуке здешних народных песен, о монотонности их соломенного плетения, которое ты стараешься то здесь, то там, так сказать, всунуть в свои песни… Прямо используешь, или как-то немного его изменив…
Как это у тебя:
Ну да… как будто есть в этом что-то… Милость господня… не для меня ли ты выбрал этот кусок?.. Сам ты, видно, не слишком ревнивый служитель господа, ежели с теологии переехал на филологию и даже против желания Зонтага?.. И там не нашел ничего, стоящего изучения… Размазня… (Но и чрезмерно рьяных божьих служителей я тоже не перевариваю. С богом, прежде всего, нужно быть умеренным.)
Потом своим невыразительным тоном он произносит пророческие слова:
(главы-главы-главы — почему главы, ежели головы куда красивее?)
Хм —

Роман выдающегося эстонского писателя, номинанта Нобелевской премии, Яана Кросса «Полет на месте» (1998), получил огромное признание эстонской общественности. Главный редактор журнала «Лооминг» Удо Уйбо пишет в своей рецензии: «Не так уж часто писатели на пороге своего 80-летия создают лучшие произведения своей жизни». Роман являет собой общий знаменатель судьбы главного героя Уло Паэранда и судьбы его родной страны. «Полет на месте» — это захватывающая история, рассказанная с исключительным мастерством.
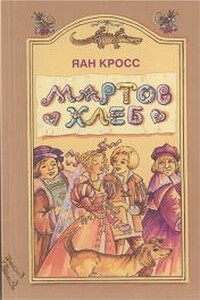
Яан Кросс (1920–2007) — всемирно известный эстонский классик. Несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию. Поэт и прозаик. Многие произведения писателя переводились на русский язык и печатались в СССР огромными тиражами, как один из исторических романов «Императорский безумец» (1978, русский текст — 1985).Детская повесть-сказка «Мартов хлеб» (1973, впервые по-русски — 1974) переносит вас в Средневековье. Прямо с Ратушной площади Старого города, где вы можете и сегодня подойти к той самой старой Аптеке… И спросить лекарство от человеческой недоброты и глупости…
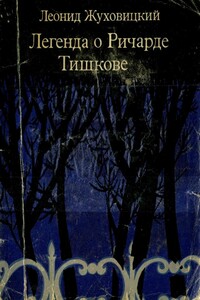
Герои произведений, входящих в книгу, — художники, строители, молодые рабочие, студенты. Это очень разные люди, но показаны они в те моменты, когда решают важнейший для себя вопрос о творческом содержании собственной жизни.Этот вопрос решает молодой рабочий — герой повести «Легенда о Ричарде Тишкове», у которого вдруг открылся музыкальный талант и который не сразу понял, что талант несет с собой не только радость, но и большую ответственность.Рассказы, входящие в сборник, посвящены врачам, геологам архитекторам, студентам, но одно объединяет их — все они о молодежи.

Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары— умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода…

Советские геологи помогают Китаю разведать полезные ископаемые в Тибете. Случайно узнают об авиакатастрофе и связанном с ней некоем артефакте. После долгих поисков обнаружено послание внеземной цивилизации. Особенно поражает невероятное для 50-х годов описание мобильного телефона со скайпом.Журнал "Дон" 1957 г., № 3, 69-93.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.Собрание сочинений в десяти томах. В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим…», «В горах» и «Золотая ночь».

«Кто-то долго скребся в дверь.Андрей несколько раз отрывался от чтения и прислушивался.Иногда ему казалось, что он слышит, как трогают скобу…Наконец дверь медленно открылась, и в комнату проскользнул тип в рваной телогрейке. От него несло тройным одеколоном и застоялым перегаром.Андрей быстро захлопнул книгу и отвернулся к стенке…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.
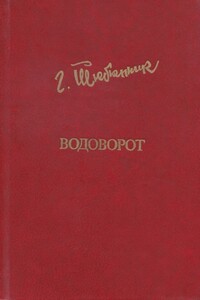
Роман «Водоворот» — вершина творчества известного украинского писателя Григория Тютюнника (1920—1961). В 1963 г. роман был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. У героев романа, действие которого разворачивается в селе на Полтавщине накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны — разные корни, прошлое и характеры, разные духовный опыт и принципы, вынесенные ими из беспощадного водоворота революции, гражданской войны, коллективизации и раскулачивания. Поэтому по-разному складываются и их поиски своей лоции в новом водовороте жизни, который неотвратимо ускоряется приближением фронта, а затем оккупацией…