Огоньки на той стороне - [18]
Но ведь пораскинуть мозгами: если там — жизнь, то здесь тогда — что? А? Делай вывод! Хрен-то они, граждане, делали вывод. Вертинский их всех совлек с магистрального пути.
Особенно — кому подавай дурную красоту, как Наде. Не понимал Голобородько этого в ней. Красота — это полезная красота. А вредная красота — это уродство. «А ты знаешь, Гришенька, что по-польски „красавица“ — „урода“?»
Все может быть… но вообще он этого не понимал. Чем дальше, тем большего он в Надежде не понимал. Она его, прямо сказать, удивляла.
Удивлял ее голос, как-то вдруг, скачком переходивший от нежного мурлыканья к сильному, напористому визгу. Эти по-мужски напористые и по-женски истеричные звуки, возникавшие моментально, стоило появиться хоть какому-то, даже пустячному поводу (пробки, например, полетели, или дождь полил, или Шнобель по глупости не подходящее к моменту слово вставит — да мало ли) к порче ее настроения, эти порывистые ноты очень действовали на Голобородько. От перепада голоса и от горящих глаз, от ее перекатывающегося «ч» и рычащего «р», от «ы» и «и», давящих, как сигнал: «Воздушная тревога!», — от всей этой взрывной звуковой волны душа его уходила в пятки, а в горле вставала та гадкая злоба, которой Григорий Иванович в себе не понимал. Или вот она никогда не скажет: «в уборную», а воспитанно — «кое-куда». Не назовет задницу задницей, а скажет «мягкое место». И при этом не задумается так грубо рявкнуть, что уж лучше бы пустила матерком, только поласковей.
Чем больше в женщине запасов доброты и злобы — тем сильнее разряды между полюсами, тем диковиннее молнии над головой. Кому же охота быть громоотводом, екорный ты бабай?
Или ее подпол; он всегда полный. И полный вовсе не зельцем второго сорта, не щеками свиными, не крупяными концентратами. Ну, там шуба из котика, это ясно. Это туда-сюда; это, может, подарок. Там рестораны, оперетта — тоже не каждый день. Хотя уже не совсем понятно. А вот когда подпол, а зарплата семьсот с рублями, это как?..
А мало ли как! У-ты-сильно как он любил ее! И, конечно, пальчика ее не стоил, при всех ее грехах. Без греха кто? Никто. А кто вот, как Надя, коробку витаминков С в один присест сгрызет, будто ей не тридцать три, а семь; кто холодное мороженое ледяной газировкой запивает для окончательной радости; кто еще способен плакать, измеряя свою полнеющую талию клеенчатым сантиметром? Никто. Он любил ее, как любят детей, хотя и по-другому, потому что она была взрослая. Он всего-навсего умел ее любить как умел. Он любил обувать и разувать на ее плавных ножках ботики. Он понимал, что ей другой любви надо, но что он мог ей еще дать? Разве рассказать, чем люминал отличается от веронала, а веронал от мединала, или что такое внутреннее сгорание? И он продолжал выбивать ее половики, чистить им составленной жидкостью (неделю ломал голову!) коврики: один с оленями на водопое, другой с охотниками на тех оленей. Он пробовал научить ее шить на машинке, но машинка Надю злила противным звуком, и Голобородько сам зашивал ей расползшийся шов, а то и поднимал петлю на чулке, чему научила его Берта Моисеевна: она чулки чинила всему кварталу за малую плату. Надя ух — благодарила, а у самой за щечкой — крупный кусок шоколада «Золотой ярлык» и в глазах туман от красивых мыслей. Эти мысли навеяли ей любимые ее книжки «Маленькая хозяйка Большого дома» и «Новеллы» Стефана Цвейга. Понимала она толк, будьте спокойны, в письмах незнакомки. Знала, что такое двадцать четыре часа в жизни женщины. Шнобель пробовал читать Цвейга, чтобы идти в ногу с любимой в деле культуры. Но наткнулся на рассказ «Амок», про то, как человек сошел с ума, — наткнулся и озверел. «Ты что?» — спросила Надежда. «Брехня. Не жизнь, а кино заграничное. Я тебе про это дело не рассказ — роман могу рассказать. На тыщу страниц! И не такой ф-фанеры, а — в натуре!» — «Ты?» — «Я». — «Ну-ка, ну-ка, Гришенька…» Ну, он эк-мек — молчок; такое его дело, понял, что тут попишешь. Но больше он Надиных книжек не раскрывал, а вернулся к правдивым подвигам партизан. Там все в порядке, все документально легендарно.
Дважды в неделю он почесывал Надин хребет, мягкий, живой, в отличие от Уральского, и старался не повредить, не нарушить покой спинного мозга под позвонками. Жмурясь, рассуждала она тем временем о смысле жизни. О глупых мужчинах, не понимающих тайны женской души. Взять хоть ее. Разве ей надо шоколада? Ей надо сильных чувств, жизни на пределе. Любви до гроба и сладкой тоски страданий. Шоколад — «Золотой ярлык» — это: раз уж не дают взлететь, так хоть подсластиться. Надо же все-таки понимать иногда и тонкие материи.
Тем временем он рассеянно работал над ее спиной, погружаясь в теплую минеральную воду любви. Он слышал, как слабые струйки дыхания проходят сквозь поры ее кожи. В такие минуты он ясно видел, что Надя, ее тело и душа — существуют. То есть живут сами по себе в мире, ничуть не менее реально, чем его тело и душа. И он узнал теперь, что это и есть любовь: чувствовать, что вот этот человек — не картинка, не движущийся и производящий приятные или неприятные звуки предмет, как все остальные «люди», а —

Автор этого рассказа — молодой писатель, начавший печататься, к сожалению, не в нашей стране, в в парижском журнале «Континент», и то под псевдонимом. В СССР впервые опубликовался в декабре 1990 года в журнале «Знамя»: повесть «Огоньки на той стороне». Рассказ «Няня Маня» — вторая его публикация на Родине и, надеемся, в «Семье» не последняя.Газета "Семья" 1991 год № 16.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.

Роман современного шотландского писателя Кристофера Раша (2007) представляет собой автобиографическое повествование и одновременно завещание всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. На русском языке публикуется впервые.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.

Однажды учительнице русского языка и литературы стало очень грустно. Она сидела в своем кабинете, слушала, как за дверью в коридоре бесятся гимназисты, смотрела в окно и думала: как все же низко ценит государство высокий труд педагога. Вошедшая коллега лишь подкрепила ее уверенность в своей правоте: цены повышаются, а зарплата нет. Так почему бы не сменить место работы? Оказалось, есть вакансия в вечерней школе. График посвободнее, оплата получше. Правда работать придется при ИК – исправительной колонии. Нести умное, доброе, вечное зэкам, не получившим должное среднее образование на воле.
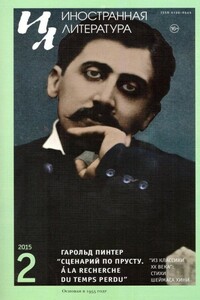
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Северин – священник в пригородном храме. Его истории – зарисовки из приходской и его семейной жизни. Городские и сельские, о вечном и обычном, крошечные и побольше. Тихие и уютные, никого не поучающие, с рисунками-почеркушками. Для прихожан, захожан и сочувствующих.