Оглашенные - [16]
Вот – птица. Это большая птица. Загляните ей в растопыренный глаз – вы не встретитесь с ней взглядом. Это у маленьких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У этой – дикий, ужасный, красный глаз. Это в небе она красива («то крылом волны касаясь…») – здесь, в руке, она уродлива и страшна. Она – настолько не мы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь.
Это была чайка (сотрудники спорили, определяя ее вид). Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик Саша, юннат, приобщавшийся к будущей профессии на биостанции. Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него не похожа. Он был возбужден и без конца повторял свой рассказ.
Как Иван-дурак жар-птицу, он поймал эту чайку руками. Прыгнул, как вратарь, и поймал. Честное слово! Он шел по берегу моря, вся стая снялась, а эта сидит. Он прыгнул. Правда, руками… Он сам в это не верил: мыслимое ли дело, человек, который ловит руками чаек!.. Подвиг его таял в собственных глазах. Никто его не осудил, но никто и не одобрил. «Я ее два часа нес!» – обиделся он.
– Так она же с голоду подохнет! – сказал кто-то.
Это предположение повлекло за собою немедленные действия…
Я часто про себя отмечал некоторую достойную несентиментальность практических дел (и это мне, уже более сентиментально, всякий раз нравилось). Так, сотрудники полевого стационара, сами питаясь весьма однообразно (каши и концентраты), каждый день варили и крошили яйца, терли морковь и т. д., чтобы кормить своих пернатых пленников тем, чего сами не ели. Они напоминали родителей, дети которых никогда не выйдут из детского возраста. Или, например, каждый из них без малейших угрызений совести распотрошит птичку для своего бессмысленного эксперимента, однако, если случится какая непредусмотренная потрава, они чрезвычайно досадуют и огорчаются. Однажды в ловушку залетело слишком много птиц, их не успели своевременно освободить, и много птиц погибло – так они их съели! Дело не только в некотором профессиональном шике, в подчеркнутой небрезгливости к живому, в профессиональной свободе от обывательских представлений – они способны съесть и ворону, и лисицу (отравленного или несъедобного мяса нет! – еще одно периферийное открытие, сделанное мною для себя в их среде: памятка на случай голодной смерти в лесу – чего не бывает!..) – дело еще и в пусть неосознанном искуплении вины перед природой, в которой ничто не гибнет напрасно. Они превратили этот прецедент в охоту (волк не кровожаден, а голоден, добывая себе пищу…), они искупили вину, ритуально вписав свою оплошность в экологическую систему, сделав вид, что птиц этих они добыли для живота своего…
…Было раскрошено крутое яйцо, и сотрудник, умело держа птицу, умело раскрывал чайке клюв и пытался ее накормить. Чайка понятия не имела о том, что ей желают добра. Она не имела понятия и о том, что отказ от пищи грозит ей смертью. Она не представляла себе, что она в руках профессионала и ни единое перышко ее не будет повреждено: наверно, она полагала, что ее схватили, чтобы сожрать (чайку, в случае чего, тоже можно съесть, хотя она чрезвычайно невкусна). Она видела себя в окружении людей, совершенно непохожих на чаек, и не видела спасительного моря. Она не хотела есть, она страстно исторгала из себя эту спасительную пищу, будто отраву. Герой оказался в стороне, он недоумевал, он растерянно смотрел на свои пустые руки, поймавшие птицу. После обеда чайка умерла. Ее тоже пытались «пристроить» во имя цельности экологической системы – отдали Кларе. Клара была, однако, возмущена. Это возмущение она выражала очень по-человечески: каркала, отмахивалась крыльями, как руками, оскорбленно молчала и отворачивалась на ласковые увещевания. Я не стал расспрашивать об истинной природе этой оскорбленности (плохая еда), по-своему разделяя Кларины чувства.
Со своим бешеным, исполненным смертельного ужаса глазом, не исполняющим никакого взгляда в нашем понимании, эта давящаяся чайка стоит перед моими глазами, представляя собою для меня как бы обобщенно одну птицу. Эта одна-птица, если бы мы не привыкли к их вообще существованию на земле, представляет собою чудовище, то есть устрашающе-огромное чудо, какого на самом деле быть не может. У нее только две тонкие ноги, на ногах когти; она покрыта даже не шерстью, а какими-то жестковолосыми плоскими костями, которые нельзя назвать никаким уже понятным нам словом, и мы изобретаем слово «перо»; у нее маленькая змеиная головка с невидящими глазами по бокам, она не посмотрит на вас одновременно двумя глазами; у нее совмещены рот и нос – вместо всего этого у нее рог, который она раскрывает с мерзким звуком, мы не найдем для этого слова и условно обозначим «клюв». Вместо рук или передних ног у нее два веера, – если бы к ним не было приложено это обтекаемо-горбатое противоестественное тулово, они бы, может, показались и нам красивыми. Но если страшны порознь эти противоестественные детали, какой же это монстр в собранном виде! Увеличьте насекомое, к которому мы все испытываем инстинктивную брезгливость и неприязнь, до размеров кошки – и вы поймете, какие на самом деле испытываете эстетические чувства, впервые увидев эту одну-птицу.
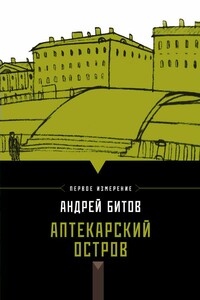
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
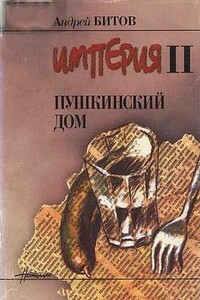
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
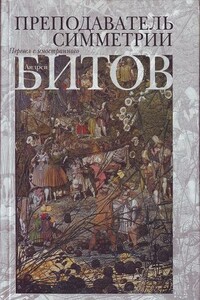
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.
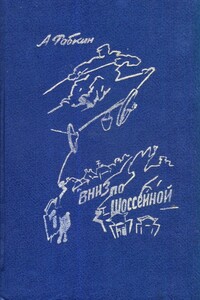
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с садовыми растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми людьми. Череда случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду, принадлежащем мужчине, которого она никогда не видела, но, изучив инструменты на его участке, уверилась, что он талантливый резчик по дереву. Одновременно она ловит себя на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, чьего имени даже не знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать детективный сериал.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
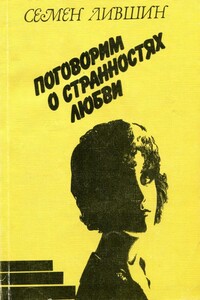
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
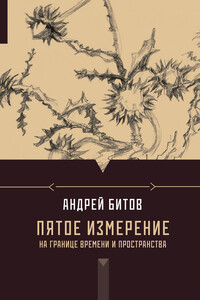
«Пятое измерение» – единство текстов, написанных в разное время, в разных местах и по разным поводам (круглые даты или выход редкой книги, интервью или дискуссия), а зачастую и без видимого, внешнего повода. События и персоны, автор и читатель замкнуты в едином пространстве – памяти, даже когда речь идет о современниках. «Литература оказалась знанием более древним, чем наука», – утверждает Андрей Битов.Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).