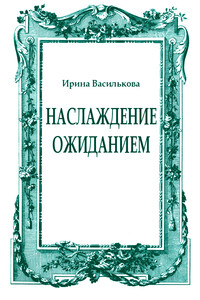Огарев - [2]
Унылый внутренний мир находит себе печальное соответствие во внешней природе, и мы читаем:
Вечная осень… Тяжко должен чувствовать себя человек, для которого как бы остановилось кругообращение времен и весна ни разу больше не возвращается. Она – неподвижное прошлое.
И Огарев «болезненно лелеет» его, «как мать безумная в слезах с младенцем мертвым на руках». Это – поразительный образ, но к Огареву он не подходит в том отношении, что наш поэт вовсе не безумен и мертвенность ребенка вполне сознает. Безумная мать считает своего младенца живым, он для нее ничем не отличается от живого, между тем как Огарев слишком ясно видит ту линию, которая отделяет прошлое от настоящего. Прошлое он именно в этом его качестве и чувствует. Оно не облеклось для него в плоть и кровь, оно одето в свой траур и не имеет иллюзии и красок текущего момента. Велик был бы тот человеческий дух, в котором бы ничто не умирало, который знал бы одно настоящее и переживал бы «вечное теперь», nunc starts. Нашему писателю эта вечность совсем чужда. Его душа только памятлива, но не бессмертна. Прошлое не сливается в ней с настоящим в одно глубокое впечатление, в одно сверхвременное настроение – прошлое у него остается бледно. Самое воспоминание у него – без яркости. И если бы Огареву предложили заменить эту бледность отмерших элементов духа живыми переливами настоящего, он бы на это не согласился, – у него для настоящего, как мы уже сказали, нет силы, он не хочет реальности, он вместо нее взял бы сновидение. Огарев всегда предпочтет мертвое, и он сознательно и рассудочно скажет:
Рассудочность вообще искажает его меланхолию, как и всю его поэзию, и было бы лучше, если бы он был просто сентиментален и наивен, если бы не было этого вмешательства рассуждений и еще этих инкрустаций неглубокого юмора. Огарев отлично сам себя понимал и объяснил в своих стихах – не читатель, а сам он вскрывает свою оглядчивость, свою привязанность к прошедшему.
Его дух, всегда обращенный к прошлому, уже этим обнаруживает свою несамостоятельность. Огареву нужны чужая помощь, чужое благословение, хотя бы они шли из могилы, из «страны иной». Он постоянно говорит и просит о дружбе – ему необходим другой. Он не мужествен и не может быть один, – а велик именно одинокий. В первом же стихотворении жалуется он на то, что он и его друзья не встретили участия. Огарев – поэт без подвига. Словно дитя без родителей, без руководителей, он заблудился, растерялся в жизни, особенно, конечно, в русской жизни, которая возмущала его, прерывала было его бескровную тоску, но своим насилием искажала, заглушала все боевые, гражданские звуки его поэзии и своей циничной грубостью так мучила его чуткую, может быть, слишком холеную душу («и политический наш быт меня без отдыха томит»); и он тоскливо оглядывается кругом: нет ли проводника.
Оттого же часто встречается у него и мотив семьи, детей, которым он желает, чтобы хоть у них «был плодотворен вешний дождь и летний зной, нивы колос многозерен»; он любит ребенка (свою Лизу, которую от него увозят), – но тоже не столько в его настоящей прелести, сколько как потенцию жизни, как будущий очаг воспоминаний: ведь Огареву – мы уже знаем это – жизнь и вообще-то мила не актуальная, а только в ее прошлой или будущей возможности. Ему отраден «старый друг – старый дом», «опять знакомый дом, опять знакомый сад»; он часто сидит у камина с думой «седою, отжившей», – быть может, со связкой давнишних, пожелтевших писем от возлюбленной, которая умерла, и безотвязно преследует его какой-нибудь знакомый, неуловимый, старый мотив. Для него, утомленного, разбитого не столько «седою усталью годов», сколько воспоминаниями, так желанно все, что уютно и приветливо, все, что ласкает негой отдыха. Да, устал этот человек, «вместе старый и молодой»…
Но вас удручает избыток утомления, эта душа, похожая на опустелый барский дом, который оживает только лунной ночью, когда отдается воспоминаниям и портреты на стенах его старинных покоев начинают свою безмолвную беседу. И мы выносим такое впечатление, что поэзия Огарева, бедная полнозвучными аккордами, в лучших своих образцах похожа на кладбище, которое он (что так характерно для него) любил и охотно посещал. Кладбище, где «тише стала тишина», имеет свою печальную отраду, и на нем пышно разрастаются цветы; но все же кладбище не сад, и кто может, тот уходит с него – в жизнь.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
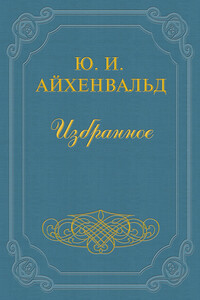
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
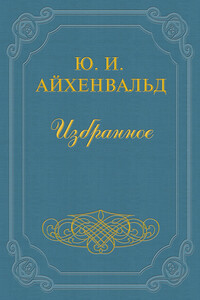
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.