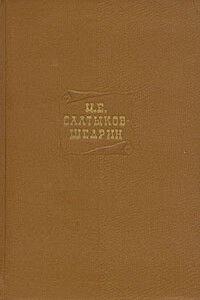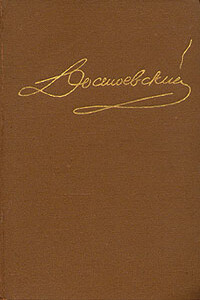Я вот не умею описать, но я долго мучилась. И я не знаю – но только учить грамоте я не могу. И как же мне их учить, когда вместо того такие у них помыслы (ежели вы не поверите – я листики Василь-Миронычева сына прилагаю), и ежели грамотному человеку один выходит простор – грабить. Потому что я это понимаю, ежели в мужике и вдруг оказывается кулак.
Вот мне и пришло на ум: сем-ка я перестану жить. Нельзя же мне жить и мучиться. Потому, чувствую я, – нет мне на этом свете дела. А уж по-прежнему, на себя жить, кормиться, я не могу, – сил моих нету. И стало мне тут казаться, как вот в пословице говорят: „Свет не клином сошелся…“ – стало мне показываться, что совсем, совсем он клином сошелся, свет-то, и что как ни оглянешься, везде-то один холод… И что же я тут вспомнила. Вспомнила я – тетрадка у меня была, офицер мне подарил, и были в этой тетрадке стихи одни: Ах, усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая, плотно сырою землею придавится… Только одним человеком убавится… Убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна…>{5}
Господи, что ж это я за дура за такая…
Ах, похороните меня на Дозорном!»
Тут письмо оканчивалось, и опять желтелось пятно, в котором безобразно расплылись последние буквы.
Наутро были похороны. Я не ходил. Я только видел, как небольшая толпа, в которой изобиловали дети, чернеясь на сереньком горизонте, медлительно прошла к кургану и как маленький гроб мерно колыхался на плечах несущих.
Но на другой день я проведал офицершу. Могилка ее возвышалась на самой вершине кургана, и оттуда действительно видно было далеко. День был серый и пасмурный. Бесконечные вереницы свинцовых туч низко ползли над пустынными полями. Вдалеке синел лес. Грязные села чернелись там и сям, и стройные колокольни воздвигались темными силуэтами.
Я сел на могилу. Рыхлая земля, медленно шурша, осыпалась подо мною. Перекати-поле взлетело на курган и, на мгновение зацепившись за насыпь, тихо и задумчиво покатилось далее. Жесткий северный ветер то буйно и дико завывал над моим ухом, то плакал жалобно и тонко.