Одиссей Полихрониадес - [33]
Когда мы остались одни, я снялъ съ отца сапоги и помогъ ему раздѣться, и онъ все время принималъ услуги мои молча и съ закрытыми глазами. Раздѣлся онъ и упалъ на постель не помолившись даже по обычаю, а только успѣлъ сказать:
— Помилуй насъ, Боже, помилуй насъ!
Я тоже легъ, помолчалъ и говорю:
— Отецъ!
А онъ спрашиваетъ:
— Что́?
Я говорю:
— Отецъ, ты меня родилъ, ты и похорони меня, а я здѣсь жить не могу.
Отецъ ни слова даже и не отвѣтилъ; онъ уже глубокимъ сномъ спалъ.
А я, какъ отдохнулъ послѣ завтрака, то не могъ такъ скоро заснуть и довольно долго тосковалъ и вздыхалъ на постели, размышляя о томъ, какъ тяжела въ самомъ дѣлѣ чужбина. Теперь еще и отецъ мой золотой со мною, естъ кому защитить и отъ турецкой власти, отъ паши, и отъ Коэвино, и отъ Гайдуши. А когда одинъ останусь… Бѣдная голубка мать моя что-то думаетъ теперъ? И бабушка моя дорогая? И Константинъ? И Несториди? И служанка наша добрая?
И вся молитва моя была, чтобы г. Благовъ, русскій консулъ, возвратился поскорѣе и чтобы мнѣ жить у него подъ сѣнью двуглаваго орла всероссійскаго. Онъ хоть и пошутилъ надо мною, но совсѣмъ иначе. А этотъ во весь вечеръ даже и вниманія не обратилъ на меня.
Кромѣ комплимента о турецкомъ саванѣ ничего не нашелъ сказать!
Нѣтъ, онъ даже очень глупъ послѣ этого, я вижу.
Съ этими мыслями я заснулъ наконецъ и на другое утро проснулся довольно поздно опять отъ шума и хохота! Коэвино хохоталъ и кричалъ уже въ самой нашей комнатѣ.
Я открылъ глаза и съ изумленіемъ увидалъ, что онъ самъ точно въ такомъ же турецкомъ саванѣ, какъ и я, т.-е. въ ситцевомъ халатѣ, въ длинной шубѣ (джюбе́) съ широкими рукавами, въ фескѣ, шалью подпоясанъ по нижнему халату, куритъ чубукъ, отца кофеемъ угощаетъ, хохочетъ и говоритъ ему:
— Теперь къ тебѣ съ визитами многіе пріѣдутъ! Архонты! Попы!.. Принимай ихъ пока у себя въ гостиной, а мнѣ для туалета моего нужно еще по крайней мѣрѣ два часа… Я раньше и къ больнымъ никогда не выхожу. Что́ я носильщикъ что ли? Архонтъ я янинскій, чтобъ я сталъ рано выходить изъ дома! А? скажи мнѣ? А! Правъ я? А!
На меня онъ опять взглянулъ небрежно въ лорнетъ, даже и съ добрымъ утромъ не привѣтствовалъ меня и ушелъ на другую половину дома. А мы съ отцомъ остались, наконецъ, одни. Дождался я этой минуты!
— Что́, Одиссей, — спросилъ отецъ ласково, — здоровъ ли ты?
Я сказалъ, что здоровъ, но нарочно придалъ себѣ опятъ печальный видъ.
— Однако, ты не веселъ, вижу? — спросилъ опять отецъ, — мордочку свою внизъ повѣсилъ?.. Что́ такъ?
— Отецъ! — сказалъ я тогда съ чувствомъ, складывая предъ нимъ руки, — прошу тебя, не оставляй меня въ этомъ домѣ!..
Отецъ молчалъ задумчиво.
А я воодушевился и передалъ ему, что Гайдуша назвала насъ съ нимъ деревенскими людьми, на что́ онъ отъ усталости не обратилъ вѣроятно вниманія. Сказалъ и о саванѣ турецкомъ, и о страхѣ, который наводятъ на меня Коэвино вспыльчивостью своей, а Гайдуша своею змѣиною злобой…
— Это вѣдьма хромая, вѣдьма, а не женщина! — говорилъ я — Отдай меня въ русское консульство. Прошу я тебя и умоляю!
Отецъ долго молчалъ еще и слушалъ меня и, наконецъ, сказалъ:
— Оно и правда, что мытарства наши еще не кончились, видно. Однако съ надеждой на Бога подождемъ еще немного. Гайдуша — вѣдьма; это ты хорошо сказалъ. Ей, я думаю, и убить въ гнѣвѣ человѣка нетрудно. Ничего, однако, подождемъ еще.
Мнѣ этотъ отвѣтъ отца показался жестокимъ, и я подумалъ про себя:
«Подождемъ, подождемъ!..» Вотъ и отецъ иногда ко мнѣ не сострадателенъ. О саванѣ турецкомъ вотъ ни слова не упомянулъ. Отчего бы ему не сказать прежде всего: — Сынъ мой Одиссей! Я сошью тебѣ скоро, какъ можно скорѣе, модный сюртучокъ à la franca, чтобы не смѣялись люди надъ твоимъ турецкимъ халатикомъ. Подождемъ! Да, а каково жить такъ, объ этомъ отецъ не спроситъ? Каково жить мнѣ такъ. И въ турецкомъ платьѣ ходить, и оскорбленія терпѣть отъ чужихъ людей ежечасно. Сельскіе люди: — спите рано! Говорить не умѣете! Ну, чужбина! Истину говоритъ пѣсенка наша народная про злую чужбину:
III.
Мы прожили у доктора Коэвино въ домѣ около трехъ недѣль. Я за это время думалъ иногда, что умъ потеряю. У доктора всякій день что-нибудь новое; то ссоры опять съ Гайдушей, то миръ; то крикъ и разсказы за полночь. Мы ходили съ отцомъ по городу, смотрѣли, принимали визиты, отдавали ихъ. Сколько я новыхъ людей за это время увидалъ! Сколько памятниковъ старины! Сколько новыхъ рѣчей услыхалъ! Какъ же на всѣхъ этихъ людей и на всѣ эти новые для меня предметы смотрѣлъ, открывъ широко глаза, и какъ я многому дивился! Всѣхъ чувствъ моихъ я и передать тебѣ не могу!
Мы ходили съ отцомъ въ старую крѣпость, которая такъ романтически высится на неприступныхъ скалахъ надъ озеромъ.
Мы видѣли высокую деревянную башню надъ крѣпостными воротами; съ нея въ послѣдній разъ съ горестью смотрѣлъ Али-паша эпирскій на пораженіе своихъ дружинъ султанскими воисками. Видѣли его гробницу, подобную бесѣдкѣ изъ узорнаго желѣза… Подъ этимъ узорнымъ, уже ржавымъ, навѣсомъ лежитъ его безглавое тѣло. Голова его, многодумная, голова рождающая, женская

«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».
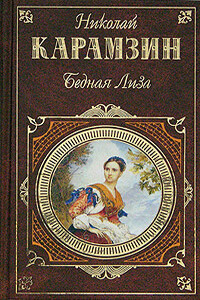
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма.В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена».

Воспоминания написаны вскоре после кончины поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932), с которым Цветаева была знакома и дружна с конца 1910 года.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.