Одиссей Полихрониадес - [2]
Видишь ты этого юношу, который такъ стыдливо и благоразумно молчитъ въ кругу чужихъ людей? Еще пухъ первой возмужалости едва появился на его отроческихъ щекахъ… Ты скажешъ: «онъ дитя еще»; не правда ли? Нѣтъ, мой другъ. Онъ не дитя. Этотъ робкій юноша уже семьянинъ почтенный; онъ женатъ; онъ, быть можетъ, отецъ!
Года два еще тому назадъ какія-нибудь старушки въ его родномъ селѣ замѣтили его первую возмужалость. Онѣ долго совѣщались между собою; онѣ считали деньги его родителей, судили о родствѣ его, связяхъ и сношеніяхъ, и пришли, наконецъ, предложить его отцу, его матери или ему самому въ жены сосѣднюю дѣвушку, которая, какъ поетъ древній стихотворецъ, «едва лишь созрѣла теперь для мужчины».
За ней даютъ деньги; воспитана она въ строжайшемъ благочестіи; привычна къ хозяйству; неутомима на всякую ручную работу; она не безобразна и здорова. Онъ соглашается. Ему нужна бодрая, дѣятельная хозяйка въ отцовскомъ домѣ, нужна помощница старѣющимъ родителямъ; нуженъ якорь въ отчизнѣ; его душѣ необходимъ магнитъ, который бы влекъ его домой, хотя бъ отъ времени до времени, изъ тѣхъ далекихъ странъ, гдѣ онъ осужденъ искать счастья и денегъ.
И вотъ онъ мужъ, отецъ…
Теперь, когда загорецъ привыкъ къ своей новобрачной, когда содрогнулось его сердце въ первый разъ, внимая плачу новорожденнаго ребенка, — пусть сбирается онъ смѣло въ тяжкій путь на борьбу съ людьми и судьбой, на лишенія, опасности, быть можетъ, на раннюю смерть. Теперь пусть онъ обниметъ старую мать и жену молодую; пускай благословитъ своего ребенка… Ему въ родномъ жилищѣ нѣтъ ужъ больше дѣла, ему нѣтъ мѣста здѣсь; его долгъ уѣхать и искать судьбы хорошей въ большихъ городахъ торговыхъ, въ дальнихъ земляхъ плодородныхъ. И такъ жить ему теперь до старости и трудиться, лишь изрѣдка навѣщая семью и родныхъ, на короткій срокъ.
Такъ говоритъ эпирская старая пѣсня разлуки.
Сорокъ слишкомъ селъ цвѣтетъ въ Загорахъ нашихъ.
И не думай ты, это села бѣдныя, какъ во Ѳракіи или въ иныхъ полудикихъ албанскихъ округахъ.
Я помню, съ какимъ ты презрѣніемъ говорилъ о желтыхъ хижинахъ болгарскихъ, о томъ, какъ тебя клали въ нихъ спать на сырую землю, около худого очага, когда зимою ты ѣздилъ къ роднымъ въ Филиппополь. Не понравились тебѣ простые ѳракійскіе болгары, ты звалъ ихъ звѣрями въ образѣ человѣка; ты порицалъ ихъ овчинныя шубы, не покрытыя сукномъ, ихъ черныя чалмы, ихъ смуглыя, худыя лица; въ черныхъ этихъ лицахъ ты тщательно отыскивалъ какіе-то слѣды туранской крови.
Я помню, какъ негодовалъ ты на духовенсто всѣхъ предковъ твоихъ за то, что не позаботились они «во-время» или не сумѣли, какъ ты говорилъ тогда, «эллинизировать (во славу рода нашего священнаго!) этихъ безграмотныхъ и грубыхъ чалмоносцевъ!»
Радуйся, эллинъ. Загоры наши не таковы.
И здѣсь (скрывать я этого не буду) течетъ много славянской крови. Но что́ значитъ кровь?
Здѣсь Эллада по духу, Эллада по языку и стремленіямъ.
Любезныя горы моей дорогой отчизны! Есть въ Турціи мѣста живописнѣе загорскихъ, но для меня нѣтъ мѣста милѣе. Горы моего Эпира не украшены таинственною и влажною сѣтью дикихъ лѣсовъ, подобно горамъ южной Македоніи; широкій каштанъ и дубъ многолѣтній не простираютъ на ихъ склонахъ задумчивыхъ вѣтвей. Холмы эпирскіе не обращены трудомъ человѣка въ безконечныя рощи сѣдыхъ и плодоносныхъ оливъ, подобно холмамъ Керкиры или критскимъ берегамъ.
Только далѣе, къ Пинду, гдѣ живетъ рослый куцо-влахъ, тамъ шумятъ душистыя сосны, толпясь на страшной высотѣ.
У насъ, внизу, высоты наги; колючій дубъ нашъ не растетъ высоко; мелкими и частыми кустами зеленѣетъ онъ густо вокругъ нашихъ бѣлыхъ селъ.
Но и безъ садовъ масличныхъ и безъ лѣса дикаго наши эпирскія горы мнѣ милы.
Радуйся, эллинъ аѳинскій!..
Села наши загорскіе, хотя и носятъ старо-славянскія имена, но они села эллинскія, — богатыя, красивыя, просвѣщенныя.
«Довра, Чепелово, Судена, Лѣсковецъ…» Пусть эти звуки не смущаютъ тебя.
Не бойся. Уже и лѣсные куцо-влахи Загоръ стали узнавать и любить имена Ѳемистокла, Эсхила и Платона.
Села наши богаты и чисты; дома въ нихъ — дома архонтскіе; училища просторныя, какъ въ большихъ городахъ; колокольни у церквей высокія и крѣпкія, какъ башни. Колокола намъ издавна привычны; они и встарь еще сзывали старшинъ загорскихъ на совѣтъ, не только на молитву.
Турки не жили никогда въ нашемъ краю, огражденномъ древними правами фирмановъ.
У насъ они могли сказать по своему обычаю: «Здѣсь, о, Боже мой! не Турція! Здѣсь я слышу несносный звукъ колоколовъ на храмѣ невѣрныхъ!»
Видишь, какъ бѣло наше загорское село? Какъ груда чистѣйшаго мѣла сіяетъ оно на солнечныхъ лучахъ посреди виноградниковъ. А вокругъ за садами дальняя пустыня безлѣсныхъ высотъ. Тополи и дубы растутъ на дворахъ и шумятъ надъ домами.
На площади, у церкви, стоитъ большой платанъ, и подъ его широкою тѣнью бесѣдуютъ загорскіе старцы, которымъ Богъ сподобилъ возвратиться домой и скончать на покоѣ трудовые дни.

«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
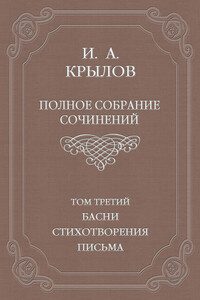
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
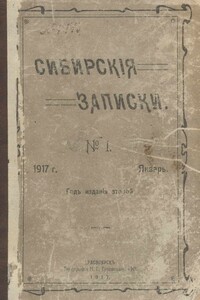
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.
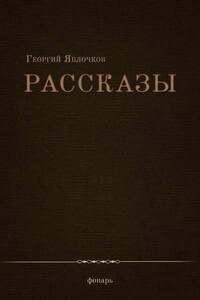
Георгий Алексеевич Яблочков — русский писатель.«Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич, — отозвался о Яблочкове И. А. Бунин. — Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.