Одинокое сердце поэта - [21]
И стихи давались все труднее, словно оборвалась некая его пуповина с настоящим и основным миром, и все строки, как верные птицы, улетели туда, где вдоволь земли и неба, где звенит коса на хлебной ниве.
Уже через три «воронежских» месяца в письме к Михаилу Шевченко он пишет не без горечи и усталости: «Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках». Никогда не бывал Воронеж Городом Желтого Дьявола, но и обычный, не преизбыточный монетный звон поэту враждебен. Разумеется, без них, на различных языках звучащих по-разному, но одинаково цепко ухвативших человека и человечество, шага не ступить, хотя оттого знаками чести и добродетели они не станут никогда.
Редакции выделили однокомнатную квартирку, и там поселились двое сотрудников. И оба — поэты: Алексей Прасолов — из начинающих и Павел Касаткин — из так называемых маститых, кто-то уже предрек ему будущность — поэтическую будущность Кольцова советской эпохи. Будущий Кольцов советской эпохи выпить был непромах, и поговаривали, что это он Прасолова научил… приучил… затянул в зеленый омут. Может быть: жили-то в одной квартире более двух лет. Справедливость заставляет все-таки вспомнить, что еще в педучилище Алексей был не прочь присоединиться к хмельной двоице-троице, а то и организовать оную, и верный Алексеев друг строго отповаживал его от погребка на россошанском базаре. Да и сельское учительствование в Шекаловке по вечерам нередко замешивалось на самогоне или «Волжском» — глухоубойном, отвратительном вине с поэтическим названием.
Кораблинов, однажды ранним утром зайдя в редакционный туалет, застанет там Прасолова — спящим. И разбросанно-растрепанным. В душе — как что-то оборвалось: у Владимира Александровича было три сына, Алексей был словно четвертый, названый. Что-то с ним будет дальше?
Кораблинов позже, с горечью наблюдая пагубную тягу и внешнюю и внутреннюю неустроенность, душевную безладность Прасолова, назовет его воронежским Франсуа Вийоном. Не подозревая, «как наше слово отзовется». Отозвалось — загуляло по разным пирушкам и страницам. Один литератор, пути которого не раз пересекались с прасоловскими, передаст мне рукописное стихотворение, написанное им после трагического февраля; и там тоже — «Мэтр Франсуа Вийон».
Все-таки все было намного глубже. И по-русски. Поэтические искания, неприятие городских суеты и блесток, детское и недавнее прошлое, неясное будущее смыкались в неразмыкаемый круг, связывались в узел, который и не развязать, и не разрубить.
Что-то Прасолов попытался объяснить в письме Стукалину, через несколько месяцев после отъезда из Воронежа:
«Я собрал кое-что из написанного и пересмотрел. Раньше темы у меня были просты, а стихи выходили современные. Но меня тянуло к более глубокому; научиться чему-либо у нынешних поэтов почти невозможно — я обратился к классикам. Тут и заела меня форма — ямбы, ямбы… „высокий штиль“ и прочее. Это прескверное состояние — иметь мысль, образ и не выразить тем языком, который у тебя на языке… И, однако, из него, как оказалось, не так уж трудно выйти — стоит бросить классическую форму и взять простую. Итак — больше ни строчки по-старому. Признаюсь, мне порой перед самим собой неловко: ведь я простой сельский учитель, а в стихах ряжусь во фрак XIX века. Это пришло не сейчас, после вашего письма, оно давно как упрек не давало мне покоя. Но во что переодеваться — я не знал. Как буду писать (смогу ли — такого вопроса нет), увидите сами. Странно: прежние (сельские) стихи, которые я перечитал сейчас, пусть они неглубоки, но светлы; а последние — как могильные плиты; под их формой я хоронил в каждом живое, сегодняшнее, поэтому когда я дописывал последнюю строчку и остывал, мне не хотелось их читать…
И дурак же я был, что прокорпел над могильными ямбами! Но были причины.
Город втиснул меня в скорлупу, сковал, оглушил и, наконец, озлобил; я ходил с одним желанием: „бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью“! Хорошо, что я дольше не остался там и не бросил ничего. А рука дрожала. Отсюда все — в ином свете…»
Это объяснение требует объяснений. Ямбы останутся и впредь. И Твардовский знаменитую теперь подборку прасоловских стихотворений в «Новом мире» намеревался так и назвать — «Ямбы»; всего скорей, и назвал бы, не окажись в подборке иноразмерный, хорейный стих. «Ямбы» куда лучше, чем констатирующие — «Десять стихотворений». И опять же — «Ямбы» блоковские, высокая традиция!
А «городской синдром» — все, наверное, так. И сельским — светлым — стихам здесь было не взойти и не выжить. Чувства тревоги, разлома, безладности, непрочности устоявшегося, вынесенные из детства, из обесполовиненной семьи, из войны, в городе усугубятся. Чувство сиротства — особенного, вне рода, вне близких — станет прямо-таки угнетать.
И как неожиданно, вдруг, оставит он университет, так же для внешних глаз неожиданно уйдет из «Молодого коммунара», и так же по-прасоловски резко уедет из Воронежа — к осени 1955 года.
Эти его три зимы и три лета — словно незримый, неудачный поединок с городом? И возвращение на малую россошанскую родину — как отступление? Движение вспять? Или же — вглубь? Как сильная рыба уходит на дно, ему надо было уйти от многошумной городской суеты? Деревня, почва, холмистые поля, ничем не застимые, дали ему начальные радости и горести, и оглядеться надо там, где горизонт смыкает землю и небо.

Книга В.В. Будакова рассказывает об удивительной и непростой судьбе генерала Андрея Евгеньевича Снесарева. Генерал Снесарев был широко известен не только как военачальник и участник Первой мировой войны, но и как талантливый военный педагог, географ и востоковед. Несомненную ценность для современной России представляет и письменное наследие А.Е. Снесарева.В настоящем издании личность генерала Снесарева получила яркое и правдивое описание. Книга будет интересна самому широкому кругу читателей — историкам, географам и востоковедам.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
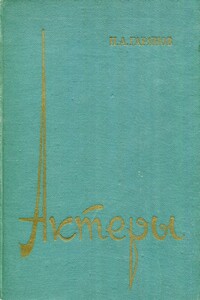
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.