Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - [14]
Если к вам вообще не прикасаются, речь — самая тесная связь, какую вообще можно установить с другим человеком. Почти все городские жители — ежедневные участники сложного хорового исполнения: иногда звучит ария, но чаще это хор, зов и отклик, передача туда-сюда разменной речевой монеты с едва знакомыми людьми и совсем посторонними. Парадокс в том, что, когда ты втянут в более развернутую и удовлетворительную близость, такие повседневные обмены протекают гладко, едва заметно, нечувствительно. Именно от скудости более глубокой, более личной связи эти обмены делаются несоразмерно важными — и несоразмерно рискованными.
По прибытии в Америку я беспрестанно запарывала игру в языковой мяч — то ловила неловко, то подавала наперекосяк. Ежеутренне проходила парк на Томпкинс-сквер за кофе, мимо фонтана «Умеренность» и собачьей площадки. На Девятой улице было кафе с окнами на городской сад, где росла исполинская плакучая ива. В кафе обитали почти исключительно люди, которые вперялись в сияющие раковины своих ноутбуков, и потому это место казалось безопасным, где мое положение одиночки вряд ли заметят. Однако всякий день случалось одно и то же. Я заказывала в меню то, что более всего походило на фильтр-кофе: средний вариант кофеварочного напитка, о котором писано было большими меловыми буквами на доске. И всякий раз, без исключения, у баристы делался растерянный вид, и меня просили повторить. В Англии я, возможно, сочла бы это забавным или раздражающим, или я этого даже не заметила бы, но в ту осень меня это доставало до печенок, втирало мне в кожу крупинки тревоги и стыда.
До чего же глупо огорчаться по такому поводу: это же малый изъян чужеземности, вещания на общем языке со слегка иными интонациями, иным наклоном. Витгенштейн говорит от имени всех изгнанников: «Молчаливые соглашения для понимания разговорного языка чрезмерно усложнены». Не давалась мне эта сложная приладка, эти невероятные молчаливые соглашения, и тем самым я выдавала себя как неместную, как чужака, того, кто не знает пароль: «регуляр» или «капельный».
В определенных обстоятельствах оказаться снаружи, не встроенным, может стать источником удовлетворения, даже удовольствия. Есть разновидности уединения, которые дают отдушину от одиночества — если не лекарство от него, то, во всяком случае, каникулы. Бывало, я гуляла, бродила под опорами Вильямсбургского моста или шла вдоль Восточной реки вплоть до серебристого остова здания ООН и забывала о бессчастной себе, становилась пористой и безграничной, как туман, приятно плывущий по течениям города. Сидя у себя в квартире, я этого не чувствовала, — лишь выходя на улицу: либо бродя совершенно в одиночку, либо погружаясь в толпу.
В таких условиях я становилась совершенно свободной от навязчивого бремени одиночества, от ощущения неправильности, от смятения, порождаемого стигмой, от осуждения и заметности. Но нетрудно было сокрушить эту иллюзию самозабвения, вернуть меня не только к себе самой, но и к знакомому, убийственному ощущению нехватки. Иногда меня провоцировало нечто зримое: парочка, идущая рука об руку, что-то вот такое обыденное и безобидное. Но чаще это оказывался язык, необходимость общаться, понимать и стараться быть понятой посредством устной речи.
Яркость моего отклика — иногда румянец, но чаще полновесный шквал паники — свидетельствовала о сверхбдительности, о том, что восприятие общественных взаимодействий начало искажаться. Где-то у меня в теле измерительная система определяла опасность, и теперь малейший сбой в общении засекался как потенциально необоримая угроза. Словно после того, как мной столь катастрофически пренебрегли, мой слух настроился на ноту отвержения, и когда она звучала, как это неизбежно случается, понемножку весь день, некая важная часть меня сжималась и захлопывалась, готовая удирать не столько физически, сколько глубже внутрь моего «я».
Несомненно, подобная чувствительность несуразна. Однако проступило нечто едва ли не мучительное и в говорении, и в том, что ты не понят, что твои слова не разобрать, и оно проникало в сердцевину всех моих страхов насчет одиночества. Никто и никогда тебя не поймет. Никому неохота слушать, что ты говоришь. Отчего ты не встроишься никак, зачем так выделяешься? Нетрудно понять, откуда в таких обстоятельствах возникает недоверие к языку, сомнения в его возможности устранить расселину между телами, раненными открывшейся брешью, потенциально убийственной пропастью, что зияет под каждой тщательно выверенной фразой. Бестолковость в таком случае — возможно, способ избежать страдания, уклониться от боли несостоявшегося общения отказом участвовать в нем вообще. Так я, во всяком случае, объясняла ширившееся во мне безмолвие: как отторжение, близкое к тому, как желают избежать повторного удара током.
Кто-кто, а Энди Уорхол эту дилемму понимал; от этого художника я всегда отмахивалась, пока сама не стала одинокой. Трафаретных коров и председателя Мао я видела тысячу раз и думала, что это все бессодержательное, порожнее, пренебрегала ими, как это часто бывает с предметами, на которые мы смотрим, но толком не видим. Уорхол заворожил меня лишь после того, как я перебралась в Нью-Йорк, где наткнулась на пару его телеинтервью на YouTube, и меня поразило, до чего трудно ему было, похоже, справляться с требованиями речи.

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.

Кэти – писательница. Кэти выходит замуж. Это лето 2017 года и мир рушится. Оливия Лэнг превращает свой первый роман в потрясающий, смешной и грубый рассказ о любви во время апокалипсиса. Словно «Прощай, Берлин» XXI века, «Crudo» описывает неспокойное лето 2017 года в реальном времени с точки зрения боящейся обязательств Кэти Акер, а может, и не Кэти Акер. В крайне дорогом тосканском отеле и парализованной Брекситом Великобритании, пытаясь привыкнуть к браку, Кэти проводит первое лето своего четвертого десятка.

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.
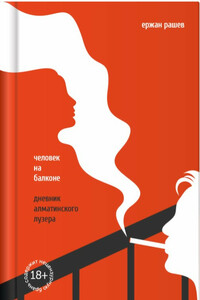
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.
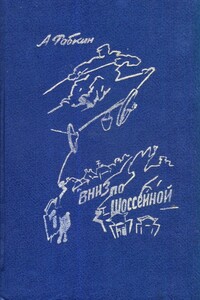
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Один человек с плохой репутацией попросил журналиста Максима Грязина о странном одолжении: использовать в статьях слово «блабериды». Несложная просьба имела последствия и закончилась журналистским расследованием причин высокой смертности в пригородном поселке Филино. Но чем больше копал Грязин, тем больше превращался из следователя в подследственного. Кто такие блабериды? Это не фантастические твари. Это мы с вами.
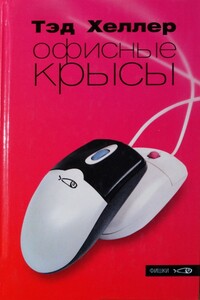
Популярный глянцевый журнал, о работе в котором мечтают многие американские журналисты. Ну а у сотрудников этого престижного издания профессиональная жизнь складывается нелегко: интриги, дрязги, обиды, рухнувшие надежды… Главный герой романа Захарий Пост, стараясь заполучить выгодное место, доходит до того, что замышляет убийство, а затем доводит до самоубийства своего лучшего друга.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!