Очерки о традиции и метафизике - [6]
Наконец, ритуалы, образующие культ, или форму богослужения, обладают интеллектуальным характером постольку, поскольку принимаются в качестве символического и чувственного выражения доктрины; они же обладают социальным характером, когда рассматриваются как обряды, требующие участия всех членов религиозного сообщества. Термин «культ» может по праву быть сохранен только за религиозными ритуалами; тем не менее на практике он достаточно часто употребляется — хотя это скорее ошибочное употребление, — для того чтобы обозначать ритуалы другого типа, например чисто социальные, как в том случае, когда люди говорят о «культе предков» в Китае. Следует заметить, что в религии, где социальные и чувственные элементы преобладают над интеллектуальным, как догма, так и культ теряют свой удельный вес все больше и больше, настолько, что религия такого рода вырождается в чистый и простой «морализм», и хорошим примером этому является протестантизм; в крайнем случае, к которому сегодня очень близок «либеральный протестантизм», то, что остается, уже совсем не религия, поскольку сохраняется только один из ее существенных элементов; на самом деле в таком случае перед нами просто особая разновидность философского мышления. Необходимо сказать, что мораль может быть понята двумя совершенно разными способами: в качестве религиозной морали, где она привязывается к догме как к своему принципу и подчиняется ему, и в качестве философской морали, где она рассматривается как совершенно независимая форма человеческой жизни.
Теперь будет понятно, почему мы утверждаем, что термин «религия» трудно применять с точностью за пределами группы религиозных традиций, образованной Иудаизмом, Христианством и Исламом, и это подводит нас к доказательству специфически еврейского происхождения той идеи, которую это слово теперь выражает. Причина заключается в том, что ни в каком другом случае те три элемента, которые мы только что перечислили, не обнаруживаются соединенными в одной и той же традиционной концепции; так, в Китае можно, как мы уже говорили, обнаружить интеллектуальный и социальный элементы, которые к тому же представлены двумя различными ветвями традиции, но элемент морали здесь полностью отсутствует даже в социальной традиции. Также и в Индии та же самая моральная точка зрения никак не обнаруживается; и если законодательство здесь не является, как в Исламе, религиозным, то это потому, что оно полностью свободно от элемента чувственности, который один только и может сообщать законодательству особый характер морального кодекса; что касается доктрины, то она здесь является чисто интеллектуальной, иными словами метафизической, без малейшей примеси чувственных форм, которые были бы совершенно необходимы, чтобы придать доктрине характер религиозной догмы, и без которых связь морального кодекса с принципом доктрины была бы совершенно непостижима.
Таким образом, можно увидеть, что моральная точка зрения, так же как и религиозная, в сущности, предполагает определенный элемент чувственности, сентиментальности, который чрезвычайно развит среди людей Запада за счет интеллекта. Следовательно, мы прикасаемся здесь к чему-то такому, что в действительности свойственно лишь людям Востока, причем к последним следует отнести также и мусульман, но опять-таки при том важном условии, что мораль и в Исламе, сохраняя принадлежащее ей второстепенное место, никогда не будет принята за некоторую совершенно автономную сущность. Это остается справедливым даже в том случае, если забыть о сверхрелигиозном, метафизическом аспекте доктрины Ислама; ментальность мусульманина в любом случае не способна принять понятие «автономной морали», иначе говоря, — философской морали, идеи, которая первоначально появилась среди греков и римлян и которая опять становится широко распространенной на Западе в настоящее время.
Здесь требуется сделать одно последнее замечание: мы никоим образом не разделяем мнения социологов, рассматривающих религию в качестве чисто социального факта; мы просто говорим, что религия включает в себя составной элемент, принадлежащий социальному порядку вещей, и это совсем не одно и то же, поскольку при нормальном положении вещей этот элемент вторичен по отношению к доктрине, которая в свою очередь принадлежит уже совершенно иному порядку; таким образом, религия хотя, с одной стороны, и связана с социальным устройством, но в то же самое время представляет собой нечто безусловно большее. Более того, на практике встречаются случаи, когда все, что связано с социальным порядком, ограничивается религией и зависит от нее; так обстоит дело не только в случае с Исламом, о чем мы уже говорили, но и в Иудаизме, где законодательство является не менее религиозным по своему характеру, хотя и с той характерной особенностью, что оно распространяется только на отдельный народ; то же самое справедливо и для раннего Христианства, которое может быть названо «интегральным» и которое в те времена еще предполагало метафизическую реализацию.[9]
Мнение социологов полностью соответствует современному состоянию Европы, где любые рассуждения о традиционных доктринах уже не принимаются во внимание, поскольку эти доктрины и на самом деле утратили свою изначальную ценность среди протестантских наций; как ни странно, но теории социологов даже используются для обоснования концепции «государственной религии», то есть такой религии, которая в той или иной степени становится частью государства и которая может, следовательно, использоваться уже как политический инструмент. Эти теории в каком-то смысле даже возвращают нас к религиям греков и римлян, в соответствии с тем их описанием, которое мы выше уже предприняли. Следует только добавить, что идея «государственной религии» диаметрально противоположна идее «Священной империи»: последняя, появившись еще до образования наций, после того, как они появились, не могла ни продолжать свое существование, ни быть позднее восстановленной вновь, будучи, в сущности, «сверхнациональной» по своей природе; однако здесь у нас нет возможности специально останавливаться на данном вопросе, который мог бы увести слишком далеко от главной темы данных очерковa.

В книге французского мыслителя-традиционалиста Рене Генона (1886–1951) исследуются основные символы, используемые в различных цивилизационных, религиозных, мифологических системах. Царь Мира раскрывает тайны иерархии духовной власти и ее священного центра.

Христианство и инициация, Et-Tawhid, Влияние исламской цивилизации на Европу, Письма Гвидо Де Джорджио, Атлантида и Гиперборея, Зодиак и страны света и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В знаменитом исследовании "Эзотеризм Данте" (1925) Генон предпринял попытку раскрыть сложную систему символов поэтики Данте.

В книге, помимо исследования о космических циклах, есть работы об Атлантиде и Гиперборее, а также тексты о древнееврейской, египетской и греко-латинской традициях. Традиционные космологические знания, содержащиеся в данной книге, составляют, несомненно, труд, не имеющий аналога ни на одном языке мира. Актуальность этих работ, созданных в первой половине 20-го века, сохраняется и в наше время.
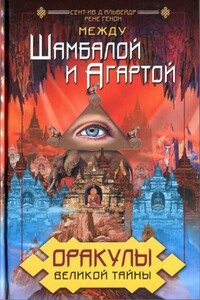
Книга включает в себя два программных текста великих французских мистиков: «Миссия Индии в Европе» Сент-Ива д'Альвейдра и «Царь мира» Рене Генона, причем труд д'Альвейдра печатается впервые после 1915 года. Оба произведения обращены к сакральной географии Шамбалы и Агарты, мистических стран в сердце Азии. Можно спорить и не соглашаться с учениями этих оракулов философии Тибета, но они оставили заметный след в мировой культуре, их имена включены в академические словари, книги и статьи изданы на всех языках мира.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года – момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. Гумбрехт считает, что у современного человека изменилось восприятие времени, он больше не может существовать в парадигме прогресса, движения вперед и ухода минувшего в прошлое.
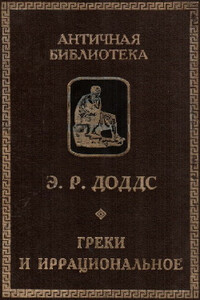
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

Что это значит — время после? Это время посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.