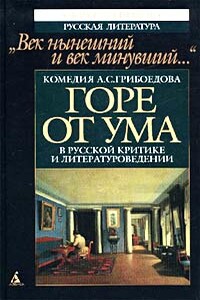Обрыв - [7]
Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.
Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, — такое чувство, если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.
Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.
Цвет лица, плеч, рук — был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым — ни болезнью, ни бедами.
Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.
Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.
В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице — и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.
Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия, он ничего не прочел. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея. Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, comme il faut[6], жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый Гименей наложит на нее цепи.
В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей, в том или другом искателе, мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.
Другие находили это натуральным, даже высоким, sublime[7], только Райский — бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.
Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва. Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее — что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения; без наивного сострадания.
И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд.
«И она была замужем!» — думал Райский в недоумении.
Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сближался сколько возможно с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная, зачем, для чего?
IV
Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстуком, обритый, сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами.
— Bonjour, bonjour![8] — отвечал он, кивая всем. — Я не обедаю с вами, не беспокойтесь, ne vous derangez pas[9], — говорил он, когда ему предлагали сесть. — Я за городом сегодня.
— Помилуй, Nicolas, за городом! — сказала Анна Васильевна. — Ведь там еще не растаяло… Или давно ревматизм не мучил?
Пахотин пожал плечами. — Что делать! Ce que femme veux! Dieu le veut! Вчера la petite Nini[10] заказала Виктору обед на ферме: «Хочу, говорит, подышать свежим воздухом…» Вот и я хочу!..
— Пожалуйста, пожалуйста! — замахала рукой Надежда Васильевна,поберегите подробности для этой petite Nini[11].
— Вы напрасно рискуете. — сказал Аянов, — я в теплом пальто озяб.
— Э! mon cher[12] Иван Иванович: а если б вы шубу надели, так и не озябли бы!..
— Parti de plaisir[13] за городом — в шубах! — сказал Райский.
— За городом! Ты уже представляешь себе, с понятием «за городом», — и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть, и пастушку… Ты артист! А ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов…
— Без тепла, без воды… — перебил Райский.
— И только с воздухом… А воздухом можно дышать и в комнате. Итак, я еду в шубе… Надену кстати бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове: все слышится, будто колокола звонят; вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется, грызут грецкие орехи… А все же поеду. О женщины!
— Это тоже — Дон-Жуан? — спросил тихонько Аянов у Райского.
— Да, в своем роде. Повторяю тебе, Дон-Жуаны, как Дон-Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно…
— Ну, брат, какую ты метафизику устроил из красоты!
— Женщины, — продолжал Пахотин, — теперь только и находят развлечение с людьми наших лет. (Он никогда не называл себя стариком.) И как они любезны: например. Pauline сказала мне…
— Пожалуйста, пожалуйста! — заговорила с нетерпением Надежда Васильевна. — Уезжайте, если не хотите обедать…
— Ах, ma soeur![14] два слова, — обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом, что-то говорил ей.
— Опять! — с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. — Нету! — упрямо сказала потом.

Цикл очерков Ивана Александровича Гончарова «Фрегат „Паллада“» был впервые опубликован в середине 50-х годов XIX века. В основу его легли впечатления от экспедиции на военном фрегате «Паллада» в 1852—1855 годах к берегам Японии с дипломатическими целями. Очерковый цикл представляет собой блестящий образец русской прозы, в котором в полной мере раскрывается мастерство И. А. Гончарова — художника, психолога, бытописателя.

Роман «Обломов» завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с «совершенно инертным» и «апатичным» главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса.Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.

Книга, которая написана более чем полвека назад и которая поразительно современна и увлекательна в наше время. Что скажешь – классика… Основой произведения является сопоставление двух взглядов на жизнь – жизнь согласно разуму и жизнь согласно чувствам. Борьба этих мировоззрений реализована в книге в двух центральных образах – дяди, который олицетворяет разумность, и его племянника, который выражает собой идеализм и эмоциональность. Одно из самых популярных произведений русской реалистической школы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
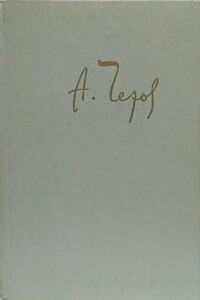
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.