Обман - [5]
Зина сердито двинула стулом и вышла, а доктор задумчиво поглядел ей вслед.
Другой случай окончательно восстановил Анну Николаевну против приятеля её сына. Вера простудилась и прихворнула. Её лечили, но она осталась бледной, вялой и нервничала больше обыкновенного. Пришёл Рачаев.
— Вот, — сказала Анна Николаевна, опять за чаем, когда все были в сборе, — посмотрите, Василий Гаврилович, на что похожа моя Вера! Не знаю теперь, к кому и обратиться.
— Зачем? — спросил Рачаев.
— Как зачем? Я уж возила её к разным… И никто ничего. Никакой пользы.
— Очень понятно! — спокойно заметил доктор. — Все они — люди женатые.
— При чем тут женитьба? — строго спросила Агринцева, уже предчувствуя что-то недоброе.
Рачаев нисколько не смутился.
— Она больна, потому что ей замуж пора, — объяснил он, — а вы обращаетесь к докторам, да ещё к старым и женатым.
Вера вспыхнула, а мать рассердилась.
— Вы всегда с глупостями! — сказала она.
— Вот уж ничуть! — убеждённо и серьёзно заговорил Василий Гаврилович. — Природа не может быть глупой, а это один из её законов. Люди насочинили своих законов и требуют, чтобы по ним шла жизнь. Природа — штука поважнее, и считаться с ней приходится поневоле.
Позже, когда Рачаев выходил в гостиную или столовую, Анна Николаевна обращалась с ним любезно, но уже ни в какие разговоры не вступала. Стараясь оправдаться перед сыном, она говорила:
— Не умею разговаривать с ним, друг мой. Вероятно, он слишком умён для меня. Как-то я просила Верочку сыграть для него, знаешь, эту её новую сонату, а он спросил, почему я думаю, что он любит такого рода шум?
На первый взгляд дружба Рачаева с Агринцевым могла показаться странной. Доктор искренно презирал литературное призвание Семена Александровича и даже, отчасти, его самого; Агринцев часто возмущался реалистическими взглядами Василия Гавриловича, но их тянуло друг к другу, и они оба скучали, когда им подолгу не приходилось видеться. Когда Рачаев приходил к Агринцеву, он шёл прямо к нему в кабинет, не здороваясь, садился на определённое кресло и морщился от табачного дыма, который волнами наполнял комнату.
— Строчишь? — спрашивал он.
Семён Александрович звонил и требовал красного вина. Доктор пил его стаканами, и эта привычка особенно не нравилась Анне Николаевне, которая всегда удивлялась, отчего он не пьянеет? Агринцев продолжал писать, а Рачаев с любопытством глядел ему в лицо и прихлёбывал из стакана.
— А ведь ты ненормален! — иногда замечал он.
— Из чего ты это заключаешь?
— Не может человек так исключительно работать воображением и сохранять полное равновесие.
— И на этот раз ты, пожалуй, прав, — признавался Агринцев и откладывал работу. — Ты знаешь, мне иногда представляется, что я «выдумал» самого себя. Всё выдумал: и свои чувства, и свои отношения к людям и поступкам. Да, я сочинил самого себя, и только где-то глубоко, внутри, сидит во мне спокойный, холодный наблюдатель; сидит и смотрит… Я люблю жизнь! Но для меня жизнь сливается с вымыслом, вымысел с жизнью. Это — круг, исхода нет. Помнишь, в цирке выбегают клоуны и начинают сбрасывать одну одежду за другой. Каждый раз получается что-то новое и неожиданное. Это я. Я ношу на себе все эти костюмы и покровы, и решительно не могу себе представить, что бы осталось, если бы я захотел сбросить их с себя.
— Осталось бы животное, — вдумчиво замечал доктор.
Агринцев морщился и махал рукой.
Иногда завязывался следующий разговор.
— Деньги у тебя есть? — спрашивал Рачаев.
Агринцев доставал бумажник и выбрасывал содержимое на стол.
— Эх, ты! Строчила! — презрительно замечал Василий Гаврилович, но, всё-таки, протягивал руку.
Агринцев возмущался.
— А ты? Эскулап!
Доктор задумывался и долго глядел на приятеля молча и задумчиво.
— Неправильно! — наконец заявлял он. — Параллель неверна. Твой труд можно оценить только кредитками, мой — результатами.
Семён Александрович пожимал плечами.
— Результатами! — насмешливо повторял он. — А зачем ты отказываешься от практики, когда она сама лезет тебе в руки? Это глупо.
— Ты отчего сам не пишешь по кухням письма к родственникам, или не сочиняешь прошений по гривеннику за штуку?
— Но что тут общего?
— Много. Чем же письма к родственникам — не литература? Во всяком случае писание писем имеет большее отношение к литературе, чем лечение нервных праздных баб — к медицине. Наконец, иное письмо или прошение — куда нужнее иного докторского визита. Ты не пожелаешь тратить свой талант на письма — я не хочу терять время на практику. И это именно оттого, что я не глуп и цену себе знаю.
И не теряя времени на практику, доктор приглашал в свою более чем скромную приёмную целую толпу всякой бедноты и возился с ними безвозмездно.
Агринцев как-то застал его во время такого приёма.
— Благодетельствуешь? — слегка иронизируя, чтобы подразнить доктора, спросил он.
— Да ничуть! — рассердился тот. — Это та же наука. Я бы рассказал тебе, какие здесь экземплярчики любопытные попадаются. Я бы сам заплатил! А если какой и попроще проскользнёт, так Бог с ним! от меня не убудет.
Агринцев уважал Рачаева за его несомненную талантливость, а его откровенность и искренность забавляли его и успокоительно действовали на его нервы.
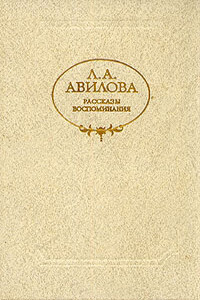
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.
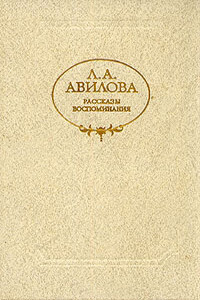
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.
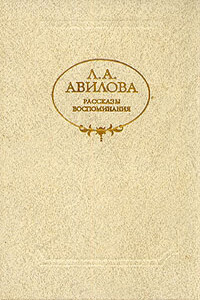
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».
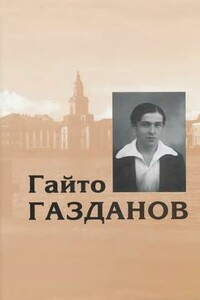
В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
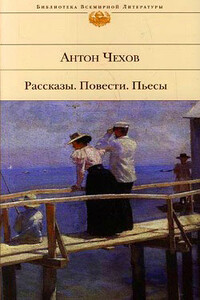
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.