Обещание на заре - [84]
— Толстой! — заявила он попросту. — Горький!
А потом, из вежливости к моей стране, добавила:
— Проспер Мериме!
Этими ночами она говорила со мной гораздо непринужденнее и доверительнее, чем прежде. Быть может, решила, что я уже не ребенок. Быть может, просто потому, что море и небо способствовали откровениям и ничто вокруг нас, казалось, не оставляло следа, только белела струя за кормой, такая эфемерная в тишине. Может, также потому, что я уезжал сражаться за нее и она хотела дать новую силу моей руке, на которую ей еще не довелось опереться. Склонившись к волнам, я черпал из прошлого полными пригоршнями: обрывки фраз из разговоров, слышанные тысячу раз слова, позы и жесты, запечатлевшиеся в моей памяти, главные темы, пронизавшие ее жизнь подобно световым нитям, которые она сама выткала и за которые не переставала цепляться.
— Франция — самое прекрасное, что есть в мире, — говорила она со своей обычной наивной улыбкой. — Потому-то я и хотела, чтобы ты стал французом.
— Ну вот, дело сделано, верно?
Она умолкала. Потом слегка улыбалась.
— Тебе придется много воевать.
— Я был ранен в ногу, — напоминал я ей. — Вот, можешь потрогать.
Я выставлял ногу с тем маленьким кусочком свинца в бедре. Я так и не дал его удалить. Она очень им дорожила.
— Все-таки поберегись.
— Поберегусь.
Часто во время заданий, предшествовавших высадке, когда осколки и взрывные волны бились о корпус самолета с грохотом прибоя, я вспоминал материнское «поберегись!» и не мог сдержать улыбки.
— Куда ты подевал свой юридический лиценциат?
— Ты хочешь сказать — диплом?
— Да. Ты его не потерял?
— Нет. Лежит где-то в чемодане.
Уж я-то знал, что у нее на уме. Море вокруг нас спало, и корабль следовал за его вздохами. Слышался глухой перестук машин. Откровенно признаюсь, я немного побаивался вступления моей матери в дипломатический мир, куда пресловутый юридический диплом должен был, как она полагала, однажды открыть мне двери. Уже десять лет она тщательно полировала наше старинное императорское серебро в предвкушении того дня, когда мне придется «принимать». Я тогда не был знаком ни с послами, ни, того меньше, с их супругами, поэтому воображал их всех как само воплощение такта, светских правил, сдержанности и умения держать себя. С тех пор, учитывая мой пятнадцатилетний опыт, я приобрел более человечный взгляд на вещи. Но в те времена у меня о дипломатической карьере было весьма восторженное представление. Так что я не без опасений задавался вопросом, а не будет ли матушка несколько стеснять меня при исполнении моих обязанностей. Боже сохрани, я никогда не делился с ней вслух своими сомнениями, но она умела читать и мое молчание.
— Не беспокойся, — уверяла она меня. — Я умею принимать.
— Послушай, мама, речь не об этом…
— Если стыдишься своей матери, так и скажи.
— Мама, я тебя умоляю…
— Но потребуется много денег. Надо, чтобы отец Илоны дал за ней хорошее приданое… Ты не невесть кто. Я с ним повидаюсь. Поговорим. Я прекрасно знаю, что ты любишь Илону, но голову терять незачем. Я ему скажу: «Вот что у нас есть, вот что мы даем. А вы что даете?»
Я хватался за голову. Улыбался, но по моим щекам текли слезы.
— Ну да, мама, ну да. Так и будет. Так и будет. Я сделаю, что захочешь. Стану послом. Стану великим поэтом. Стану Гинемером. Но дай мне время. Лечись хорошенько. Регулярно бывай у врача.
— Я старая кляча. Вон докуда дотянула и дальше протяну.
— Я договорился, чтобы тебе доставляли инсулин, через Швейцарию. Самый лучший. Одна девушка тут на борту обещала этим заняться.
Мне обещала этим заняться Мэри Бойд, и, хотя с тех пор я больше не видел ее, из Швейцарии в отель-пансион «Мермон» несколько лет подряд, включая год после войны, исправно поступал инсулин. Я не смог отыскать Мэри Бойд, чтобы ее поблагодарить. Надеюсь, она все еще жива. Надеюсь, она прочтет эти строки.
Я вытер лицо и глубоко вздохнул. Не было большей пустоты, чем на палубе возле меня. Уже подступал рассвет со своими летающими рыбами. И вдруг я с невероятной ясностью и отчетливостью услышал, как тишина шепнула мне в ухо:
— Поторопись. Поторопись.
Какое-то время я стоял на палубе, пытаясь успокоиться или, быть может, ища противника. Но противник не показывался. Были только немцы. Я ощущал в своих кулаках пустоту, а над моей головой все, что есть бесконечного, вечного, недостижимого, окружало арену миллиардом улыбок, безразличных к нашей извечной схватке.
Глава XXXVII
Ее первые письма я получил вскоре после своего прибытия в Англию. Их тайно переправляли в Швейцарию, откуда мне их регулярно пересылала одна подруга моей матери. Ни на одном не было даты. Вплоть до моего возвращения в Ниццу через три года и шесть месяцев, вплоть до самого моего возвращения домой эти письма без даты, без времени преданно следовали за мной повсюду. Три с половиной года меня поддерживали душевная сила и воля, превосходившие мои собственные; через эту пуповину в мою кровь поступало мужество гораздо более закаленного сердца. Было в этих записках своего рода лирическое крещендо, и моя мать, казалось, была уверена, что я совершаю чудеса ловкости, демонстрируя человеческую непобедимость, что я сильнее жонглера Растелли, великолепнее теннисиста Тилдена, доблестнее Гинемера. На самом деле мои подвиги еще не осуществились, но я старался как мог, чтобы поддерживать себя в форме. Я каждый день полчаса занимался физической культурой, полчаса бегом и четверть часа гирями и гантелями. Продолжал жонглировать шестью мячиками и не отчаивался поймать седьмой. Продолжал также работать над своим романом «Европейское воспитание», и четыре рассказа, которые предполагалось ввести в его состав, были уже закончены. Я твердо верил, что в литературе, как и в жизни, можно подчинить мир своему вдохновению и вернуть ему его истинное назначение, присущее хорошо сделанному и хорошо продуманному произведению искусства. Я верил в красоту, а стало быть, в справедливость. Талант моей матери побуждал меня к тому, чтобы преподнести ей шедевр искусства и жизни, о котором она так мечтала для меня, в который так страстно верила и ради которого трудилась. Что в справедливом исполнении этой мечты ей отказано, казалось мне невозможным, потому что не могла ведь жизнь быть до такой степени лишена искусства. Ее наивность, воображение и эта вера в чудо, заставлявшая ее видеть в ребенке, прозябающем где-то на восточной польской окраине, будущего великого французского писателя и посла Франции, продолжали жить во мне со всей силой прекрасных, хорошо рассказанных историй. Я еще принимал жизнь за некий литературный жанр.

Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.Перевод с французского Елены Погожевой.

Роман «Пожиратели звезд» представляет собой латиноамериканский вариант легенды о Фаусте. Вот только свою душу, в существование которой он не уверен, диктатор предлагает… стареющему циркачу. Власть, наркотики, пули, смерть и бесконечная пронзительность потерянной любви – на таком фоне разворачиваются события романа.

Роман «Корни неба» – наиболее известное произведение выдающегося французского писателя русского происхождения Ромена Гари (1914–1980). Первый французский «экологический» роман, принесший своему автору в 1956 году Гонкуровскую премию, вводит читателя в мир постоянных масок Р. Гари: безумцы, террористы, проститутки, журналисты, политики… И над всем этим трагическим балаганом XX века звучит пронзительная по своей чистоте мелодия – уверенность Р. Гари в том, что человек заслуживает уважения.
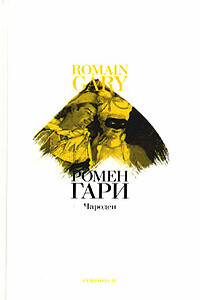
Середина двадцатого века. Фоско Дзага — старик. Ему двести лет или около того. Он не умрет, пока не родится человек, способный любить так же, как он. Все начинается в восемнадцатом столетии, когда семья магов-итальянцев Дзага приезжает в Россию и появляется при дворе Екатерины Великой...
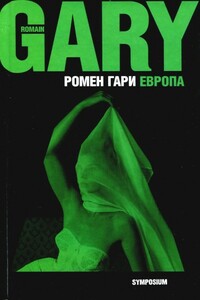
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и финалист «Большой книги» («Франсуаза, или Путь к леднику»). Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке» приглашает взглянуть на нашу жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну…

Сергей Иванов – украинский журналист и блогер. Родился в 1976 году в городе Зимогорье Луганской области. Закончил юридический факультет. С 1998-го по 2008 г. работал в прокуратуре. Как пишет сам Сергей, больше всего в жизни он ненавидит государство и идиотов, хотя зарабатывает на жизнь, ежедневно взаимодействуя и с тем, и с другим. Широкую известность получил в период Майдана и во время так называемой «русской весны», в присущем ему стиле описывая в своем блоге события, приведшие к оккупации Донбасса. Летом 2014-го переехал в Киев, где проживает до сих пор. Тексты, которые вошли в этот сборник, были написаны в период с 2011-го по 2014 г.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

Один из самых знаменитых откровенных романов фривольного XVIII века «Жюстина, или Несчастья добродетели» был опубликован в 1797 г. без указания имени автора — маркиза де Сада, человека, провозгласившего культ наслаждения в преддверии грозных социальных бурь.«Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения и что там, где скандал чрезвычаен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем де Сад? Еще и сегодня кто только свято не верит, что достаточно ему подержать в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: „Обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги“.
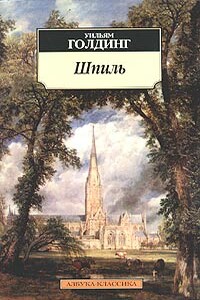
Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч.

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.
