Объективные законы композиции в изобразительном искусстве - [5]
«Взятие Бреды» Веласкеса, о котором я уже упоминал, создает впечатление большой многолюдности — присутствуют две армии, а фактически фигур не так уж много, это результат композиционного приема, передающего количество образно, а не буквально. В частности, благодаря этому приему две центральные фигуры композиции выглядят достаточно крупными и значительными.
Классическая итальянская перспектива предполагает художника, наблюдающего событие с достаточно отдаленной точки. Изучить эту перспективу необходимо, но иногда она вступает в противоречие с замыслом, сообщая ему черты успокоенности, бесстрастия. Бывает, что замысел подсказывает прямо противоположную точку зрения, хотя бы точку зрения участника события. Тогда строить перспективу нужно совсем иным, не классическим путем. Да и классики зачастую прибегали к иным приемам — вспомните хотя бы «Динарий кесаря» Тициана.
Мысль моя состоит в том, что и перспектива в композиции должна быть не догмой, а средством идейного, образного решения задачи, требующего не только знаний, но и творческой изобретательности.
То же можно сказать и об анатомии. Кто лучше Микеланджело знал ее, и, однако, как смело он нарушал ее в интересах создаваемого образа. Ведь во многие созданные им позы модель не поставишь: они невозможны в жизни, — но зато как величественно мощны фигуры Микеланджело. Знать надо все, что возможно изучить, но нельзя допускать, чтобы знания, традиции тормозили творчество. В нем один закон: все, что помогает с наибольшей силой и выразительностью воплотить идею, — хорошо; все, что мешает этому, — плохо.
В искусстве нужно не только владеть опытом прошлого, но и смело изобретать в интересах задуманного художественного образа. И наконец, последняя проблема, на которой я остановлюсь, — «новизна». Ее также следует считать законом композиции. Жизнь состоит не только из бесконечного многообразия, но и бесконечно движется, создавая все новое и новое. Реалистическое искусство не просто правдиво запечатлевает действительность, не только «зеркало» ее, пассивно отражающее все, что перед ним находится. Реалистическое искусство — это эстетическое «открытие» жизни. Стимулом искусства является восторг, увлечение художника внезапно открывшимся ему новым и удивительным в окружающей обыденности. И все действительно выдающееся в искусстве отличается этой чертой — неожиданностью впервые созданного.
Что больше примелькалось нам, чем бесконечные воспроизведения «Джоконды» или «Венеры Милосской»! И тем не менее, когда приходишь в Лувр и встречаешься с ними, поражаешься ощущению их нестареющей новизны. И наоборот, бывает, что видишь только что законченное произведение, и с первого взгляда кажется, что это где-то уже не раз встречалось… В основе такого произведения не художественное «открытие», а шаблон или компиляция. А. Кондиви — биограф Микеланджело — говорит: «Микеланджело обладал удивительной памятью; написав столько тысяч фигур, он никогда не делал одну похожею на другую или повторяющей позу другой. Я даже слышал от него, что не проводит ни одной линии прежде, чем не припомнит и не убедится в том, что никогда им не было сделано подобной, и уничтожает ту, в которой не находит новизны».
Лучшие вещи советских художников — Дейнеки, Пименова, Нисского и других мастеров — отличаются подобными чертами. Они новы и по темам, и по художественным средствам, по своим композиционным решениям.
Новизна — драгоценнейшее качество композиции. Но тут же нужно сказать, что ничего нет хуже в искусстве, чем новизна как самоцель. Это приводит лишь к кривлянью, к «кокетству». Композиция картины Давида «Смерть Марата» [внизу] была настоящим открытием по неожиданности, невиданности и смелости решения. Но это было пластическое воплощение мощного гражданского чувства великого художника. «Нарочно» выдумать такую оригинальную композицию, без глубокого идейного стимула, невозможно.
Настоящим новатором может быть только человек, открытый к восприятию «нового» в жизни, полный любопытства к этому «новому» и страстного желания утвердить это новое, запечатлев его, обратив на него внимание современников, и поэтому так важна для художника его идейная сущность, его пафос. Скептицизм же, душевная опустошенность творчески бесплодны. <…>
Полемизируя с некоторыми мыслями Д. Дидро, высказанными им в «Опытах о живописи», Гете писал, что природа создает живое и безразличное, художник — неживое, но имеющее особое человеческое значение. Природа создает действительное, художник — кажущееся. Искусство как некая природа, природа человечески созданная и завершенная, требует от художника действий согласно законам, предписанным ему самой природой. Гете говорит о законах, предписанных художнику природой. Художественное произведение, «построенное» согласно этим законам, становится «некой второй природой» — искусством.
Мне казалось наиболее важным уловить, как эти «законы природы», использованные в процессе художественного творчества, принимают формы «законов композиции». Сознательно или интуитивно следуя им, художник создает «некую вторую природу» — произведение искусства. <…>
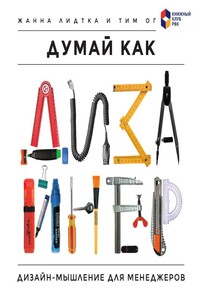
Эта книга рассказывает об одном из самых актуальных трендов бизнеса — дизайн-мышлении, или способности реализовывать идеи на практике. Ее цель — превратить понятие дизайна в практический инструмент, которым любой менеджер может воспользоваться для решения сложных задач развития. Набор новых средств включает: десять методик для объединения дизайнерского и традиционного делового подходов; словарь дизайна, переведенный на деловой язык; простые шаблоны для управления проектами, а также понятные инструкции и реальные примеры для каждого этапа внедрения инновации.
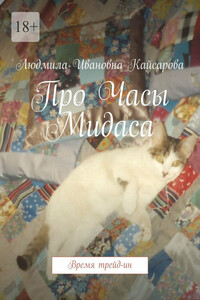
«Часы Мидаса» Натали де Рамон вышли в «Амадеусе» в 2006 в таком виде, что издателям пришлось изъять их из продажи и убрать всякое упоминание о них на своем сайте. Но вдруг в 2020 Часы зазвонили из небытия: «Читатель имеет право знать правду и читать авторский текст»! Оригинал я уже разместила на Rideró, а в этой книжке — правда, которая посвящена памяти моего гран-ами, Сергея Фомина, благодаря которому появились на свет наши Роман Веков (Кукуев) и «Три сестры мушкетера» и моя Натали де Рамон.
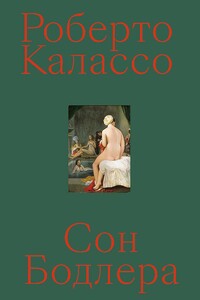
В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.
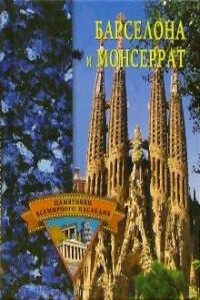
Барселона – второй по значению и числу жителей город Испании – вмещает в себя многое из того, о чем мечтает настоящий путешественник. Море, пальмы, песчаные пляжи соседствуют с мрачными романскими церквями, узкими средневековыми улочками, пламенеющей готикой и загадочной архитектурой Антонио Гауди. В данной книге прошлое и современность Барселоны связаны с традициями и обобщенным характером жителей, благодаря которым, по мнению автора, столица Каталонии приобрела свой оригинальный вид.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.