О свободе - [19]
Так в XVIII столетии почти все образованные люди, а по их примеру и люди необразованные, были проникнуты безграничным удивлением к так называемой цивилизации, к чудесам новой науки, литературы, философии, – различие между людьми Нового времени и людьми времен первобытных представлялось им в крайне преувеличенном виде, и это различие они объясняли исключительно в свою пользу, чрезмерно высоко превознося себя над древним человеком. При безграничном господстве такого исключительного, одностороннего мнения, парадоксы Руссо030 оказались весьма благодетельны: они, как бомбы, пробили крепко укоренившееся мнение, заставили его преобразоваться и принять в себя новые ингредиенты. Конечно, говоря вообще, господствовавшие в то время идеи были не дальше от истины, чем идеи Руссо, а напротив: они были даже ближе к истине, – в них было более положительно истинного и менее положительно ложного; но тем не менее в доктрине Руссо была значительная доля тех именно истин, которых недоставало господствовавшим в то время идеям. Увлечение, вызванное этой доктриной, прошло, но заключавшиеся в ней истины не пропали: высокое достоинство простоты жизни, расслабляющее, деморализирующее действие так называемого цивилизованного общества, эти идеи со временем Руссо не были совершенно чужды ни одному образованному уму, и придет время, когда они произведут свое действие, хотя нельзя не заметить, что теперь может быть более, чем когда-либо, необходимо повторить их, доказывать, утверждать не только словами, но и самим делом, так как это такой предмет, по которому слова потеряли почти всякую силу.
Так в политике теперь стало уже почти общим местом, что партия порядка или сохранения status quo и партия прогресса или преобразования суть два элемента, равно необходимые для здорового состояния политической жизни, пока та или другая из этих партий не достигнет наконец такой умственной широты, что будет вместе и партией порядка и партией прогресса, будет способна распознавать и различать, что надо сохранить и что надо уничтожить. Польза, приносимая каждой из этих партий обуславливается недостатками другой партии, и только противодействие их друг другу главным образом и сдерживает их в должных пределах. Если обе, противостоящие одна другой, стороны, демократия и аристократия, собственность и равенство, ассоциация и соперничество, роскошь и воздержание, общественность и индивидуальность, свобода и дисциплина, одним словом, противоположные друг другу стремления по всем практическим вопросам жизни не будут выражаться с одинаковой свободой, не будут доказываемы и защищаемы с одинаковым талантом и энергией, то и не будет, конечно, никакого шанса, чтобы каждая сторона получила должное, и весы необходимо склонятся в пользу одной из них. Вообще по всем великим практическим вопросам жизни истина заключается преимущественно в примирении и соглашении противоположностей: это до такой степени справедливо, что весьма редко встречаются такие умы, которые были бы достаточно сильны и достаточно беспристрастны, чтобы в самих себе произвести это соглашение противоположностей, и оно достигается, обыкновенно, не иначе, как путем тяжелой борьбы между противниками, стоящими под враждебными друг другу знаменами. Если которое либо из противоположных друг другу мнений, по какому бы то ни было из вышеперечисленных нами вопросов, имеет более права, чем другое, не только на то, чтоб быть терпимым, но и на то, чтоб быть поощряемым и поддерживаемым, то, конечно, то из них, которое в данное время и в данном месте есть меньшинство: это право – за меньшинством, потому что меньшинство представляет собою те интересы, которые в данном случае находятся в пренебрежении, оно представляет собою ту сторону человеческого благосостояния, которая находится в опасности, что ей не воздадут должного. У нас в Англии существует терпимость относительно различия в мнениях по всем почти исчисленным мною вопросам, и эта терпимость может представить нам многочисленные и несомненные примеры, доказывающие универсальность того факта, что при теперешнем умственном состоянии человечества только через столкновение между собой различных мнений и может быть достигаемо полное знание истины. Когда в обществе оказываются люди, несогласные с общепринятым мнением, то если бы даже общепринятое мнение и было полная истина, и в таком случае эти люди, по всей вероятности, всегда имеют сказать что-нибудь, что обществу полезно слышать, и истина всегда что-нибудь да теряет от их молчания.
Могут возразить: “Но некоторые из общепринятых принципов, в особенности же касающиеся самых важных и самых жизненных предметов, заключают в себе более, чем полуистину. Так, например, христианская нравственность есть полная истина по предмету нравственности, и если кто признает другую нравственность, с ней несогласную, тот, без сомнения, находится в полном заблуждении”. Вопрос о нравственности есть, конечно, самый важный практический вопрос, и поэтому он более пригоден, чем какой-либо другой, для проверки правильности изложенного нами мнения. Прежде всего нам представляется необходимым определить, что разумеется под этим выражением: христианская нравственность. Если под этим выражением разумеют нравственность Нового Завета, то нельзя не удивляться, как могут люди, черпающие свое знание о ней из самого источника, предполагать, чтобы возвещение заключающихся в Евангелии нравственных истин имело намерение установить полную доктрину нравственности. Евангелие постоянно указывает на существующую нравственность и ограничивается только правилами по тем частностям, которые находит нужным исправить или заменить; кроме того оно излагает свои правила иногда в общих выражениях, всегда красноречивых и поэтических, но часто не имеющих строгой определенности закона. Вот почему для составления строгой этической доктрины этим правилам и была придана система нравственности, выработанная Ветхим Заветом, система законченная, но, во всяком случае, имевшая в виду народ, стоявший на низкой ступени умственного развития. Таким образом, Святой Павел, которого нельзя признать сторонником чисто иудейского толкования и дополнения правил Учителя, в своих нравственных наставлениях христианам всегда предполагает признание существующей нравственности греческой и римской, иногда восставая против нее, иногда вступая с ней в компромисс. То, что называется христианской нравственностью и что правильнее было бы назвать нравственностью богословской, вовсе не есть дело Христа или Апостолов, а происхождения гораздо позднейшего. Эта система нравственности созидалась постепенно католической церковью первых столетий, и хотя протестанты и вообще люди Нового времени и не приняли ее безусловно, но тем не менее они изменили ее далеко не так много, как этого можно было бы ожидать. Они по большей части удовольствовались тем, что очистили ее от тех добавлений, которые были сделаны к ней в Средние века, при чем каждая секта заменяла эти отбрасываемые добавления новыми, более соответствующими ее собственному характеру и ее собственным наклонностям. Что человечество весьма много обязано этой нравственности и ее первым учителям, – я признаю это не менее чем кто-либо другой; но при этом я нисколько не колеблюсь сказать, что эта нравственность по многим весьма важным пунктам неполна и однобока, и положение человечества вовсе не ухудшилось, а даже улучшилось от того, что в образовании европейской жизни и европейского характера приняли участие такие идеи и чувства, санкции которых мы в ней не усматриваем. По самому своему положению в языческом мире христианская нравственность необходимо должна была иметь, между прочим, характер реакции, протеста против язычества; от этого идеал ее представляется скорее отрицательным, чем положительным: правилами ее предписывается скорее воздержание от зла, нежели энергическое стремление к добру, – “ты не должен” является преобладающим над “ты должен”. Впоследствии богословская католическая этика, по отвращению к чувственности, поставила выше всего аскетизм, который потом, идя от компромисса к компромиссу с требованиями жизни, заменила легальностью; затем, признав блаженства рая и муки ада единственными побуждениями, достойными и соответствующими добродетельной жизни, она невольно придала человеческой нравственности эгоистический характер. И в то время, когда в нравственности многих языческих народов обязанности к обществу и государству занимают даже большее место, чем какое следует, в католической этике эти обязанности едва упоминаются, – она предписывает только повиновение предержащей власти, полагая вообще в повиновении все достоинство человека и подчиняя этому чувству всю нравственность даже частной жизни и все, что имеет своим источником общечеловеческую, не исключительно религиозную, сторону нашего воспитания. Идея об обязанностях к обществу даже и той незначительной долей своего признания, какая уделяется в этиках новейших времен, обязана собственно Греции и Риму, а не католическому христианству. Мало этого: даже и в нравственности частной жизни все возвышенное, благородное, чувство человеческого достоинства, даже, наконец, и самое чувство чести, все это имеет своим источником чисто человеческую сторону нашего воспитания, а не религиозную, – ничего подобного никогда не было и не могло быть плодом такой нравственной доктрины, которая в повиновении полагает все достоинства человека.
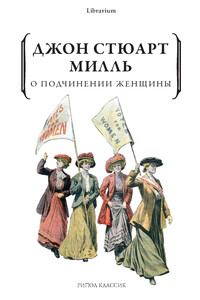
Джона Стюарта Милля смело можно назвать одним из первых феминистов, не побоявшихся заявить Англии XIX века о «легальном подчинении одного пола другому»: в 1869 году за его авторством вышла в свет книга «О подчинении женщины». Однако в создании этого произведения участвовали трое: жена Милля Гарриет Тейлор-Милль, ее дочь Элен Тейлор и сам Джон Стюарт. Гарриет Тейлор-Милль, английская феминистка, писала на социально-философские темы, именно ее идеи легли в основу книги «О подчинении женщины». Однако на обложке указано лишь имя Джона Стюарта.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.