О рифме - [3]
Иначе говоря, принцип новой рифмы состоит в том, что созвучны (рифмуются) те слова, в которых достаточное число сходно звучащих элементов. Центральное место среди этих элементов занимают ударная гласная и опорная согласная, как звуки, наиболее выдвигаемые произношением. Если, помимо того, сходство распространяется на окончание слова, получается то, что я называю «сочной рифмой» (в отличие от «глубокой»); если – на слоги, предшествующие ударному, то, что вообще можно назвать «глубокой рифмой» (обобщая это понятие). Притом сходные элементы могут быть расположены в рифмующихся словах даже в различном порядке, например метатесически или прерываясь несходными звуками: примеры у Б. Пастернака: «чердак – чехарда», «сколько им – кокаин», «восток – свисток» и др. Следовательно, эта новая рифма не только освобождает поэтов от прежних требований (соблюдать сходство окончаний), но и налагает на поэтов новые требования (соблюдать тождество опорной согласной и искать сходства предыдущих звуков). Новая рифма – иная, нежели классическая, но ни в коем случае не «менее точная» и не «менее строгая». Те из современных поэтов, которые просто позволяют себе небрежные рифмы, не понимают самой сущности совершившейся реформы.
Давать полную теорию этой новой рифмы здесь, конечно, не место. Но понятно, в какой мере она расширяет пределы возможных созвучий в русском языке. То, на что жаловался Пушкин, ныне преодолено: русских рифм стало много. Притом новая рифма, по своей звучности, нисколько не уступает классической – скорее превосходит ее. Это настолько очевидно, что поэты, продолжающие пользоваться классической рифмой, начинают вводить в нее элементы новой рифмы, например, настойчиво соблюдать тождество опорной согласной. Поэтому мало вероятия, чтобы в силу «идеалистической» или иной традиции наша поэзия когда-либо вернулась назад и отказалась от того богатства и разнообразия созвучий, которое открыто ей принципами новой рифмы.
Из всего этого следует, что эволюция русской рифмы, с моей точки зрения, изображена у В. Жирмунского не вполне правильно. Он следит только развитие классической рифмы, и в этом направлении его наблюдения более или менее верны. Но он недооценивает значения новой рифмы и поэтому не проводит нужной грани между ней и рифмой классической, не видит здесь двух раздельных периодов. Поэтому же в истории В. Жирмунского не прослежено зарождение новой рифмы в прошлом. Он не отмечает, например, стремления еще Хераскова соблюдать опорную согласную, не подчеркивает вообще роли согласных в русской рифме (почему остались необъясненными аберрации Державина и Некрасова), проходит мимо влияния парнасских рифм на русскую поэзию, наконец, не приводит примеров «новой» рифмы у прежних поэтов (например, у Пушкина: «Наполеона – миллионы», «труд – руд» и т. д.). В конце концов, как сказано выше, история В. Жирмунского говорит только о разрушении старого канона рифмы и ничего не говорит о создании нового канона.
II
Всем этим я все еще не покончил с исторической частью книги. Впрочем, то, что мне хотелось бы еще сказать о истории рифмы, уже приближается к ее теории. Можно поэтому перейти к теоретической части исследования.
Выше было упомянуто об изменении в произношении слов. Странным образом В. Жирмунский придает этому процессу мало значения. В новых созвучиях он хочет видеть «не изменение произношения, а изменение поэтического вкуса и стиля». Однако вряд ли можно спорить против того, что русское произношение, хотя бы за два века от Ломоносова до наших дней, существенно изменялось. Такие явления, как усиление «иканья», т. е. произнесение неударного е как и (примеры у Кошутича, постоянно цитируемого В. Жирмунским), распространение московского «аканья», ослабление конечных согласных – общеизвестны. Проникновение разных говоров, одного в другой, вело к ослаблению отчетливости произношения. Этот последний процесс мы могли наблюдать сами и можем наблюдать поныне. Старики, с которыми я встречался лично (например, дед мой, современник Пушкина, А. Бакулин, или П. Бартенев, родившийся в 1828 г.), произносили отчетливее, нежели я, а я сам произношу отчетливее, нежели новое поколение, родившееся в 900-х годах. Пренебрегая этим процессом, В. Жирмунский вряд ли прав: его надо было серьезно принимать во внимание, говоря о том, что рифма постепенно утрачивала свою точность. То, что в эпоху Пушкина, по тогдашнему произношению, было созвучием неточным, стало совершенно точным в период символистов.
Точно так же надо было принять во внимание индивидуальный выговор самих поэтов. Для доказательства своей мысли, – о вырождении точности рифмы, – В. Жирмунский приводит примеры безразлично из всех поэтов, редко справляясь с тем, как они произносили. Например, В. Жирмунский относит к числу «узуальных неточностей» рифмовку г и х в конце слов, предполагая здесь «влияние церковного языка, перешедшего в Москву в произношении киевском» (последнее подтверждено ссылкой на Шахматова), и в сочетаниях типа «миг – них» видит «ориентировку на графику». Между тем произношение конечного г как х есть живое южнорусское произношение и было живым, естественным, например, для Фета, чем и объясняются его соответственные рифмы, вне всякого влияния церковного языка и графики. Я сам (так как мать моя была родом с юга) в юности произносил так, почему в моих юношеских стихах и рифмуются, например, «мог – мох»: для меня это была «точная» рифма, по произношению, а не по написанию. Подобно этому, не «традицией», как думает В. Жирмунский, а живым произношением объясняется у некоторых поэтов рифмовка мягких губных с твердыми в конце слов; например, «любовь – цветов» было у П. Бутурлина точной рифмой: он так и выговаривал.

«…В молодости Валерий Брюсов испытывал влияние французского символизма – литературного направления, представленного великими именами Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо. Ощущение трагического несовершенства окружающей действительности, стремление осознать и выразить связи между реальным и невидимым миром, острое чувство одиночества и тоски были близки настроениям многих русских поэтов рубежа XIX–XX веков. Однако с той же силой в творчестве Брюсова выразилась жажда оторваться от унылой реальности, заявить о себе как о незаурядной личности в бурном и требующем перемен мире…».
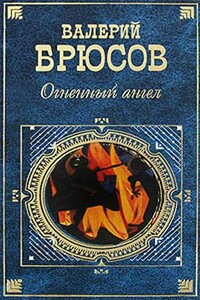
Один из самых загадочных русских романов ХХ века, «Огненный ангел» Валерия Брюсова – одновременно является автобиографическим, мистическим и историческим. «Житие» грешников – оккультистов, жаждущих запредельных знаний, приводит их либо к мученической смерти, либо к духовной опустошенности, это трагический путь Фауста, но в какой-то мере это и путь нашей цивилизации.
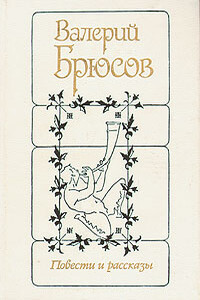
Долгие годы мужчину и женщину связывала нежная и почтительная дружба. Но спустя пятнадцать лет страсть вырвалась из оков…http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лекция, читанная автором в Москве, 27 марта 1903 г., в аудитории Исторического музея, и 21 апреля того же года, в Париже, в кружке русских студентов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
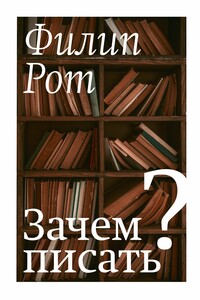
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
