О религии Льва Толстого - [22]
Если древняя психология кое-как мирилась с разделением души на три части, то теперь, после того как успехи психологического анализа если не раскрыли нам природу души, то все-же показали всю целостность и единство душевной жизни, — читать у Толстого его психологические выводы трудно без того, чтобы не вздохнуть о нем. Для нас бесспорно, что не только «дух», высшие духовные функции неразрывно связаны со всей полнотой душевной жизни, — но что они (через душу) связаны и с телом. Цельное существо человека, как оно есть, несмотря на тройственный свой состав, метафизически едино, — и учение о бессмертии, в свете всего того, чему учит анализ души, философски может быть оправдано лишь как учение об индивидуальном бессмертии, лишь в христианском смысле, — т. е. как воскресение цельного человека.
Ложный спиритуализм философски ослепил мысль Толстого, а этический универсализм помог ему удовлетвориться его односторонней концепцией. Однако психологическая и этическая неудовлетворительность[21] учения Толстого не разрешают религиозной стороны нашего вопроса: может быть, Толстой неправ психологически и этически, но, может быть, он прав религиозно, следуя своему толкованию «учения Христа». Может быть, его толкование учения Спасителя, будучи само по себе неудовлетворительно, все-таки соответствует действительному смыслу Евангелия?
Я не буду шаг за шагом разбирать богословскую аргументацию Толстого, так как для меня несомненно, что он никогда не интересовался Евангелием объективно. Мы видели до сих пор, что отношение Толстого к бессмертию определялось его личными запросами, его пониманием человека, его метафизикой. Религиозно же, как верный ученик Христа, Толстой никогда не ставил нашего вопроса, — и характерным выражением этого служит поразительный факт, что то учение о спасении и восстановлении сына человеческого, с помощью которого Толстой кое-как истолковал Евангельское учение о воскресении, в дальнейшем развитии религиозной системы Толстого не сыграло никакой роли. Поэтому вопрос о правильности истолкования Толстым учения Спасителя о бессмертии, после того, как нам выяснились противоречивость и неопределенность тех предпосылок, из которых исходил Толстой, не имеет уже значения. Если толкование Толстого фактически им самим было отвергнуто — тем, что он перешел на почву агностицизма, — если это толкование совершенно не решает тех вопросов, с которыми приступал к нему сам Толстой, то не показывает ли это всю произвольность позиции его? Единственные основания, которые Толстой выставлял в защиту своего понимания учения Спасителя о судьбе личности, были не слова Евангелия, а тот новый смысл их, который Толстой предлагает в них видеть. И если смысл, который он усмотрел в словах Спасителя, не только внешне, но и внутренне неприемлем, в силу своей неудовлетворительности и противоречивости, — не следует ли отсюда, что Толстой остался просто глух к Откровению об индивидуальном бессмертии? Если бы мы взялись разбирать толкование Толстого чисто филологически, перед нами бы вскрылась изумительная неосторожность и предвзятость его. Сведущие в филологии люди, читая толкования Толстого, могут лишь разводить руками: до того необоснованны у него его отрицания установившегося понимания слов Спасителя!
Я полагаю, что и такая работа не была бы лишней, особенно при распространенном у нас отсутствии сведений о сущности филологического метода, но я думаю, для широкой интеллигенции Толстой был близок не в своих толкованиях Евангелия, а в своем собственном учении. Правда о Евангелии, увы, мало трогает нашу интеллигенцию, — и в Толстом ее захватил не толкователь учения Христа, а живой, проникновенный проповедник той религиозной правды, которую он пережил в своем мистическом опыте. Вот почему разбором внутреннего опыта Толстого, анализом того, как у него ставилась проблема бессмертия, я и ограничил свою статью.
————
Я не сужу Толстого за его неудачныя попытки пуститься в чуждую ему область филологии и экзегезиса; наоборот, я готов преклониться перед той работой, которую он проделал. Я понимаю и то, что он не усвоил учения Христа, не принял в себя благой вести о воскресении; мне дорога религиозная жизнь Толстого такой, какой она была, дорого чувствовать в нем то же, что и в других религиозных людях — тихое чувство сыновнего доверия к Отцу Небесному, стойкое служение религиозной правде. Но мне грустно, невыразимо грустно думать, что эта могучая душа поддалась соблазну индивидуализма и отреклась от своей матери — Церкви, что она с энергией, достойной лучшего применения, старалась разрушить то, что ее самое напитало.
Толстой думал, что он воссоздавал христианство, — но он его и разрушал. Прости ему, Господи! И когда я думаю, что Толстой вырос в родной, бесконечно дорогой мне атмосфере православия, я начинаю понимать, что история души Толстого — от ее первой фазы безрелигиозности до последних блужданий и ненужно-злобной борьбы против Церкви — есть суровый и грозный урок нам всем. Я не знаю, осталась ли бы неукротимая, стихийно-своевольная душа Толстого в Церкви — даже в эпоху раннего христианства; скорее я склонен думать, что он при своем психологическом укладе и тогда бы откололся от всех. Увы, это загадочно и странно — и в то же время так обычно: это все тот же инстинкт власти, тот же деспотизм и гордость, которые были всегда присущи иным душам. Пусть так. Но одного нельзя забыть: это — успеха проповеди Толстого. У нас до сих пор есть много людей, которые считают Толстого за истинного последователя Христа, — и ничем иным, как страшным упадком религиозного самосознания, нельзя объяснить этого. И хочется у могилы Толстого молиться о том, чтобы скорее прошел соблазн толстовства, хочется молиться об упокоении души покойного. А успокоиться она не сможет раньше, чем исчезнут те цветы зла, семена которых он сеял. Во имя того доброго, что зажигал покойник порой в нашей душе, во имя того, что сделал он для отрезвления нашего общества от его безрелигиозности, во имя того смирения, которое подчинило его могучую натуру неисповедимым путям Божиим, да простит ему Господь!…

Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
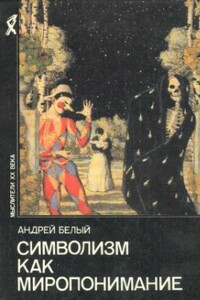
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
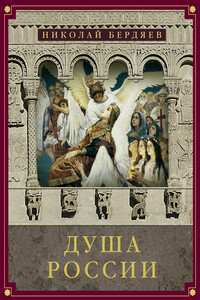
«Сегодня можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, и каждый находит в полном противоречий бытии России факты для подтверждения своей веры. Подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость». Свои размышления о судьбе России и ее месте в историческом процессе Бердяев изложил в статьях, собранных в этом издании.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.