О психологической прозе - [8]
Предела своего символическое поведение достигает тогда, когда в нем выражается обобщенный исторический характер 2. Исторический характер встречается с индивидуальным, эмпирическим человеком и формирует его на свой лад - с разными поправками на данную индивидуальность. Устойчивое массовое мировоззрение, традиционные формы жизни вырабатывали стихийную жизненную символику, стихийную ритуальность, например в среде патриархального крестьянства. Людей же сознательно символического поведения, людей, строящих свой исторический образ, выдвигали в особенности периоды больших идеологических движений. Маркс обратил внимание на историческую символику и эстетику французской революции XVIII века, осуществлявшуюся "в римском костюме и с римскими фразами на устах". В римской традиции "гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы..." 3.
1 См. об этом в моей книге "О лирике" (Л., 1974); особенно гл. 3. "Проблема личности".
2 В книге "Биография и культура" (М., 1927) Г. Винокур определяет биографию как "личную жизнь в истории", подчеркивая в то же время, что изучаемая биографом личность представляет собой структуру со своими экспрессивными формами и стилем поведения.
3 Mapкс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 8, с.120.
Жизненная символика отчетливо выступает в периоды переломные, когда рождаются "новые люди", с новыми принципами поведения. В периоды, наконец, особенно острого внимания к личности. Самыми "семиотическими" и выразительными оказывались люди с личными предпосылками, наиболее подходящими для данной исторической модели.
К проблеме исторического характера подходили уже давно и с разных сторон. В середине XIX века Сент-Бёв и несколько позднее Тэн пытаются скрестить историю с психологией. История для них воплощается в характерах, в судьбах, а характеры они стремятся истолковать исторически. "В каждую эпоху, - утверждает Сент-Бёв, - возникает некий модный тип, некий романический призрак, который овладевает воображением и как бы носится в облаках. В конце царствования Людовика XIII и в начале царствования Людовика XIV этот тип и эта модель 1 в основном сформировались по образцу героев и героинь Корнеля, а также по образцу героев мадемуазель Скюдери" 2. Через несколько лет (1856) Ипполит Тэн писал: "Аристократические нравы XVII века, как и рыцарские нравы XII века, были всего только парадным зрелищем. Каждый век разыгрывает подобное действо, и у каждого века есть созданный им прекрасный тип; у одного - это рыцарь, у другого - придворный. Было бы любопытно извлечь подлинного рыцаря из-под рыцарей, изображенных в поэмах" 3. Сент-Бёв соотносит исторический характер в жизни с персонажами Корнеля и Скюдери, Тэн - с рыцарским эпосом. Литература отражала, познавала и в то же время порождала эпохальный характер.
1 В оригинале - modele. Но в данном тексте это слово употребляется, понятно, не в современном его значении, а в смысле образца, прототипа.
2 Saintе-Веuvе С.-А. Causeries du lundi, v. 3. Paris, 1851, p. 389.
3 Taine H. Essais de critique et d'histoire. Paris, 1887, p. 209.
Вопросы эти чрезвычайно занимали Герцена; в отличие от позитивиста Тэна, он подходил к ним со своей - в школе гегельянства воспитанной диалектикой. Герцен необычайно чутко воспринимал исторический характер (широко пользуясь для его обозначения именами литературных персонажей). Он много писал об этом; "Былое и думы" - огромный свод эпохальных характеров.
Герцен склонен был к аналогиям между историей и природой. Он любил говорить о человеческих пластах и даже придумал слово "сопластники". Сопластники - это не только современники, это собратья по определенному историческому слою. Герцен писал: "Прошедшее оставляет в истории ступню, по которой наука, рано или поздно, восстановляет былое в основных чертах" (XX, кн. 1, 345). Статья 1868 года "Еще раз Базаров" вся посвящена русским эпохальным характерам, и Герцен совершенно на равных правах упоминает в ней факты общественной жизни и литературных героев: декабристы и Чацкий, нигилисты и Базаров. В качестве литературоведческого анализа это неправомерно, но Герцен занимался здесь не литературоведением.
В примечании к статье Герцен изложил свой взгляд на эти соотношения: "Странная вещь - это взаимодействие людей на книгу и книги на людей. Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его. делает более наглядным и резким, и вслед за тем бывает обойдена реальностью. Оригиналы делают шаржу своих резко оттененных портретов, и действительные лица вживаются в свои литературные тени. В конце прошлого века все немцы сбивали немного на Вертера, все немки на Шарлотту; в начале нынешнего университетские Вертеры стали превращаться в "разбойников", не настоящих, а шиллеровских. Русские молодые люди, приезжавшие после 1862 года, почти все были из "Что делать?", с прибавлением нескольких базаровских черт" (XX, кн. 1, 337).
Что же такое эти Вертеры, Чайльд Гарольды ("Москвич в Гарольдовом плаще..."), наконец Базаровы? Продукт погони за модой, иногда вовсе не подходящей к натуре данного человека? Бездумная подражательность существовала, конечно, всегда, но творчество и общественное деяние безошибочно отделяют от нее важные процессы реализации личности в исторически закономерных формах общего сознания. Личность творит эти формы, видоизменяет их, вносит в них свое, но она не может их миновать; тем меньше она может их миновать, чем больше ее собственная творческая сила, чем больше ей предстоит добавить от себя.

История ХХ века с ее «повседневностью в экстремальных условиях» оживает на страницах воспоминаний, эссе, дневниковых записей Лидии Гинзбург. Со страниц книги звучат голоса учителей и друзей автора и одновременно всемирно известных и любимых читателями поэтов, писателей, литературоведов: А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Маяковского, Н. Гумилева, Н. Заболоцкого, Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, В. Шкловского и многих других. Исповедальная проза Лидии Гинзбург честно и ярко описывает события, атмосферу и реалии эпохи, помогает почувствовать ее ритм.
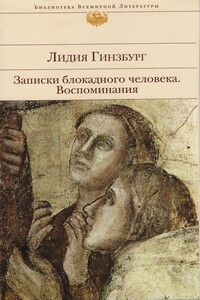
Из книги «Записки блокадного человека. Воспоминания»Лидия Гинзбург в истории отечественной культуры занимает особое место. Блестящий литературовед, критик, публицист, ученица Тынянова и Эйхенбаума, она представляет собой человека-эпоху, чье научное и писательское слово звучало свежо и новаторски и долгие годы определяло состояние умов в обществе. Областью ее интересов была русская литература XIX — начала XX веков, ее книги «О психологической прозе», «О лирике», «О старом и новом», «Литература в поисках реальности» получили широчайшую известность.
![Агентство Пинкертона [Сборник]](/storage/book-covers/48/48de3ff2cae7728e001146d6c84f71225f8e67fc.jpg)
Эта необычная книга объединяет произведения, разоблачающие Ната Пинкертона и продолжателей его дела — и Пинкертона исторического, знаменитого сыщика и создателя крупнейшего детективного агентства, и литературного персонажа, героя сотен европейских и российских сыщицких «выпусков» и вдохновителя авантюрно-приключенческой литературы «красного Пинкертона».Центральное место в сборнике занимает приключенческий роман «Агентство Пинкертона» — первая книга Л. Я. Гинзбург, переиздающаяся впервые с 1932 г. Читатель найдет в книге также комикс, предшествовавший выходу романа, редкостного «Людоеда американских штатов Ната Пинкертона» Н.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) – крупнейший российский литературовед. Две книги Л. Я. Гинзбург, объединенные под одной обложкой, касаются способов построения образа литературного героя как определенной системы взаимосвязанных элементов («О литературном герое», 1979) и истории медленного становления приемов передачи мыслей и чувств человека в художественной литературе, которое завершилось психологическими открытиями великих реалистов XIX века («О психологической прозе», 1971). Читатель узнает не только, «как сделан» тот или иной литературный образ, но и как менялось представление о человеке на протяжении всей истории литературы Нового времени.

Известный литературовед Лидия Гинзбург (1902–1990), начиная с 20-х годов, писала прозу. Появившиеся в 80-х годах ее журнальные публикации вызвали большой интерес читателей — у нас и за рубежом — и получили высокую оценку критики. В новой книге — очерки-воспоминания об Ахматовой, Багрицком, Заболоцком, Олейникове, Эйхенбауме, а также записи 1920—1980-х гг., представляющие выразительные картины меняющегося времени. Глава «Четыре повествования» — о сохранении человеческого духа в нечеловеческих условиях блокады.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
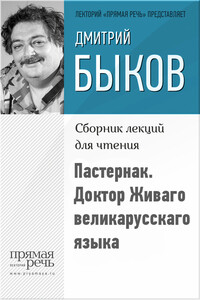
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.