О поэтах и поэзии - [3]
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...
Вместо привычных характеристик пространства-времени здесь что-то чуждое и непонятное:
Перемена империи связана с гулом слов, с лобачевской суммой чужих углов, с возрастанием исподволь шансов встречи параллельных линий, обычной на полюсе...
Для поэзии Бродского вообще характерно ораторское начало, обращение к определенному адресату (ср. обилие "посланий", "писем" и т. п.). Однако если первоначально Бродский стремился фиксировать позицию автора, в то время как местонахождение адресата могло оставаться самым неопределенным (ср.: "Здесь, на земле..." ("Разговор с небожителем"), "Когда ты вспомнишь обо мне / в краю чужом..." ("пение без музыки"), то, например, в сборнике "Часть речи", напротив, как правило, фиксируется точка зрения адресата, а местонахождение автора остается неопределенным, а подчас и неизвестным ему самому ("Ниоткуда с любовью..."). Особенно характерно в этом отношении стихотворение "Одиссей Телемаку" (1972), написанное от лица потерявшего память Одиссея:
...ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растынул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что передо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни... Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет...
3.2. Хотя некоторые "послания" "Урании" продолжают намеченную линию (ср. в особенности "Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова"), более для нее характерен тип, который может быть условно обозначен как "Ниоткуда некуда". "Развивая Платона" имеет ряд перекличек, касающихся как тематики, так и коммуникативной организации текста, с "письмами римскоиу другу" (сборник "Часть речи"). Однако, в отличие от Постума, о котором мы знаем, что он == римский друг, о Фортунатусе неизвестно вообще ничего. 4. Поскольку основное в вещи == это ее границы, то и значение вещи определяется в первую очередь отчетливостью ее контура, той "дырой в пейзаже", которую она после себя оставляет. Мир "Урании" == арена непрерывного опустошения. Это пространство, сплошь составленное из дыр, осталенных исчезнувшими вещами. Остановимся кратко на этом процессе опустошения. 4.1. Вещь может поглощаться пространством, растворяться в нем. Цикл "Новый Жюль Верн" начинается экспозицией свойств пространства: "Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна", которое сначала нивелирует индивидуальные особенности попавшей в него вещи:
И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля =
и наконец разрушает и полностью поглощает ее. Примечательно при этом , что само пространство продолжает "улучшаться" за счет поглощаемых им вещей:
Горизонт улучшается. в воздухе соль и йод. Вдалеке на волне покачивается какой-то безымянный предмет.
Аналогичным образом поглощаемый пространством неба ястреб своей коричневой окраской не только не "портит" синеву неба, но и "улучшает" ее:
Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом, бьющееся с частотою дрожи, точно ножницами сечет, собственным движимое теплом, осеннюю синеву, ее же увеличивая за счет
еле видного глазу коричневого пятна... ("Осенний крик ястреба", 1975)
4.2. На уровне поэтической тематики значительная часть стихотворений сборника посвящена "вычитанию" из мира того или иного вещественного его элемента. Стихотворения строятся как фотографии, из которых какая-либо деталь изображения вырезана ножницами и на еЧ месте обнаруживается фигурная дыра. Рассмотрим стихотворение "Посвящается стулу". ВсЧ стихотворение посвящено одному предмету == стулу. Слово "предмет" многозначно. С одной стороны, в сочетании "предмет дискуссии" оно обозначает тему, выраженную словами, а с другой == вещь, "конкретное материальное явление", как определяет Толковый словарь Д.Н. Ушакова. В стихотворении актуализируются оба значения, но к ним добавляется ещЧ третье == идея абстрактной формы. Преждже всего мы сталкиваемся с тем, что текст как бы скользит между этими значениями. Строка "возьмЧмИ некоторый стул" == типичное логическое рассуждение о свойствах "стула вообще". "Некоторый" == здесь неопределЧнный артикль и должно переводиться как "любой","всякий". Но строка полностью читается: "ВозьмЧм за спинку некоторый стул". "Некоторый стул" за спинку взять нельзя. Так можно поступить только с этим или тем стулом, конкретным стулом-вещью. "Спинка" , за которую берут, и "некоторый" == совмещение несовместимого. Строка неизбежно задаЧт двойственность темы, и служит ключом к тому, чтобы понять смысл не только этого стихотворения, но и предшествующего, знаменательно, хотя и не без иронии, названного "Развивая Платона". Стул не просто "этот", стул с определЧнным , но он "мой", то есть единственный, собственный, лично знакомый ( словно "Стул" превращается в имя собственное), на нЧм лежал наш пиджак, а дно его украшает "товар из вашей собственной ноздри". Но он же и конструкция в чертЧжных проекциях: На мягкий в профиль смахивая знак и "восемь", но квадратное, в анфасИ

Седьмая книга сочинений Ю. М. Лотмана представляет его как основателя московско-тартуской семиотической школы, автора универсальной семиотиче¬ской теории и методологии. Работы в этой области, составившие настоящий том, принесли ученому мировую известность. Публикуемые в томе монографии («Культура и взрыв» и «Внутри мыслящих миров»), статьи разных лет, по существу, заново возвращаются в научный обиход, становятся доступными широким кругам гуманитариев. Книга окажется полезной для студентов и педагогов, историков культуры и словесников, для всех, кто изучает глубинные явления культуры.СЕМИОСФЕРА Культура и взрыв Внутри мыслящих миров Статьи.
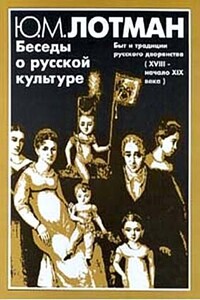
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы.
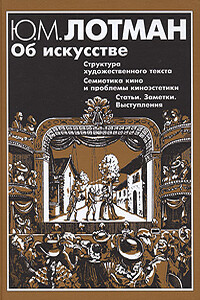
Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, литературными произведениями и т. д.Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение.
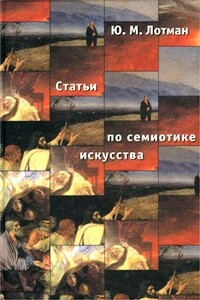
Книга Ю. М. Лотмана (1922–1993), выдающегося филолога и культуролога, основателя Тартуско-московской семиотической школы, включает статьи, в которых иллюстрируется концепция культуры как текста, принесшая ученому всемирную известность. Конкретные объекты, такие как искусство, общество, индивидуальное и коллективное поведение рассматриваются здесь как тексты, действующие внутри сложного семиотического организма — культуры.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.