О поэтах и поэзии - [2]
смущать календари и числа присутствием, лишенным смысла, доказывая посторонним,
что жизнь == синоним небытия и нарушенья правил. ("Строфы", XVI, [1978])
Бессмертно то, что потеряно; небытие ("ничто") == абсолютно. С другой стороны, дематериализация вещи, трансформация ее в абстрактную структуру, связана не с восхождением к общему, а с усилением особенного, частного, индивидуального:
В этом и есть, видать, роль материи во времени == передать все во власть ничего, чтоб заселить верто град голубой мечты, разменявши ничто на собственные черты. <...> Так говорят "лишь ты", заглядывая в лицо. ("Сидя в тени", XXII-XXIII, июнь, 1983)
Только полностью перейдя "во власть ничего", вещь приобретает свою подлинную индивидуальность, становится личностью. В этом контексте следует воспринимать и тот пафос случайности и частности, который пронизывает нобелевскую лекцию Бродского; ср., например, две ее первые фразы: "Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, едпочтении этом даволь далеко == и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властелином в деспотии, оказаться внезапно на этой трибуне == большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта часть миновала, кто несмог обратиться, что называется,"урби эт орби" с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода" (курсив наш. == М. Л., Ю. Л.). Здесь четко прослеживается одна из философем Бродского: наиболее реально непроисходящее, даже не происшедшее, а то, что так и не произошло. 2.2. По сравнению с пространством, время в поэзии Бродского играет в достаточной мере подчиненную роль; время связано с определенными про
странственными характеристиками, в частности оно есть следствие перехода границы бытия:
Время создано смертью. ("Конец прекрасой эпохи", 1969) Что не знал Эвклид, что, сойдя на конус, вещь обретает не ноль, но Хронос. ("Я всегда твердил, что судьба == игра...", 1971) Прекращая существование в пространстве, вещь обретает существование во времени, поэтому время может трактоваться как продолжение пространства (поэтому, вероятно, корректнее говорить о единой категории пространства-времени в поэзии Бродского). Однако, как мы уже убедились, абсолютным существованием является существование по ту сторону пространства и времени. Время материальнее пространства. Во всяком случае, оно почти всегда имеет некий материальный эквивалент ("Как давно я топчу, видно по каблуку..." и т. п.). 3. То, что выше было сказано о границах вещи, в значительной мере справедливо и для других границ в поэзии Бродского. О важности категории границы свидетельствует, в частности, и то, что слово "граница" может подлежать семантическому анаграммированию == своего рода табуированию, вытеснению за границы текста:
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады, вся природа, от ящериц до оленей, устремлена туда же, куда ведут следы государственных преступлений (т.е. за границу. == М.Л., Ю.Л.). ("Восславим приход весны! Ополоснем лицо...", [1978])
Вещь, как было показано выше, определяется своими границами, однако структура этих границ зависит от свойств пространства-времени, которые отнюдь не являются однородными; поэтому и вещь в различных местах может оказаться не тождественной самой себе. Особенно заметно это в приграничных областях пространства-времени, в конце, в тупике:
Точка всегда обозримей в конце прямой.
Или в более раннем стихотворении:
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут тут конец перспективы. ("Конец прекрасной эпохи")
Совершенно очевидно, что конец перспективы означает здесь не только пространства, но и времени (ср. хотя бы заглавие стихотворения). Горизонт == естественная граница мира. Свойства мира во многом зависят от свойств его границ == отсюда пристальное внимание Бродского к линии горизонта, в частности к ее качеству: она может быть, например, "безупречной...без какого-либо изъяна" ("Новый Жюль Верн"), напротив, мир, где "горизонт неровен" ("Пятая годовщина"), ущербен и во всех иных отношениях (там и пейзаж "лишен примет" и т. п.). 3.1. Любопытно проследить становление структуры мира и его границ в сборниках, предшествовавших "Урании". В "Конце прекрасной эпохи" доминируют темы завершенности, тупика, конца пространства и времени: "Грядущее настало, и оно / переносимо...", но здесь же появляется и тема запредельного существования, преодоления границы во времени (цикл "Post aetatem nostram", 1970). Показательно, однако, что последнее стихотворение цикла посвящено попытке (и попытке удавшейся) преодоления пространственной границы == переход границы империи. Начинается оно словами "Задумав перейти границу...", а заканчивается первым впечатлением от нового мира, открывшегося за границей, == мира без горизонта:
...вставал навстречу еловый гребень вместо горизонта.
Мир без горизонта == это мир без точки отсчета и точки опоры. Стихотворения первых эмигрантских лет пронизаны ощущением запредельности, в прямом смысле слова за-граничности. Это существование в вакууме, в пустоте:

Седьмая книга сочинений Ю. М. Лотмана представляет его как основателя московско-тартуской семиотической школы, автора универсальной семиотиче¬ской теории и методологии. Работы в этой области, составившие настоящий том, принесли ученому мировую известность. Публикуемые в томе монографии («Культура и взрыв» и «Внутри мыслящих миров»), статьи разных лет, по существу, заново возвращаются в научный обиход, становятся доступными широким кругам гуманитариев. Книга окажется полезной для студентов и педагогов, историков культуры и словесников, для всех, кто изучает глубинные явления культуры.СЕМИОСФЕРА Культура и взрыв Внутри мыслящих миров Статьи.
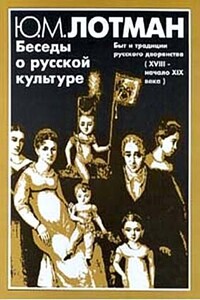
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы.
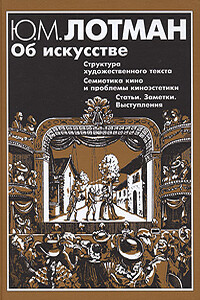
Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, литературными произведениями и т. д.Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение.
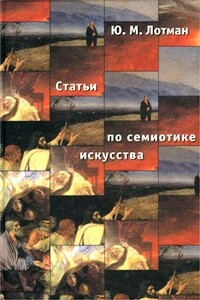
Книга Ю. М. Лотмана (1922–1993), выдающегося филолога и культуролога, основателя Тартуско-московской семиотической школы, включает статьи, в которых иллюстрируется концепция культуры как текста, принесшая ученому всемирную известность. Конкретные объекты, такие как искусство, общество, индивидуальное и коллективное поведение рассматриваются здесь как тексты, действующие внутри сложного семиотического организма — культуры.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).