О Началах - [2]
2. Защищая значимость Богознания, право и религиозный долг познавать Бога, от одаренных верою, но не понимающих возможности сомнений, еще более — от боязливо и лицемерно смиренничающих, мы защищаем Богознание рационально–выразимое и частью рационально–доказуемое. Здесь перед нами встают модные ныне ссылки на «иррациональность» и непостижимость Божественного, на особый «духовный опыт» и мистику. В самом деле, мистики постоянно говорят о «непостижимости» и «несказуемости» переживаемого ими. Однако эти слова являются своеобразным способом познания и выражения. Сказать: «Это неизреченно» значит как–то очертить, определить сферу того, о чем говорится, указать на «невыразимое». Кроме того, у самих мистиков слова: «невыразимо», «несказуемо», «неизреченно», «непостижимо» и т. п. появляются, как завершение других, положительных и содержательных слов — после того, как многое о «несказуемом» уже «сказано». Всеми этими словами мистики лишь «возносят» свои высказывания, снимая их определенность–ограниченность. Если бы узреваемое мистиком было абсолютно–непостижимым, он бы ничего не постигал и ничего не говорил, а мы бы ничего в его словах не понимали. Рассказывая о «неизреченном», мистик далек от того, чтобы считать свою речь пустым празднословием, хотя и сознает все несовершенство своих определений, все несоответствие их тому, что он пытается с их помощью определить, хотя ему и кажется, что он не говорит о Боге, а произносит хулу на Бога. И мы — худо ли, хорошо ли — понимаем мистиков, разбираемся в их «откровениях», по–разному их оцениваем,.
Очень распространено отожествление мистического опыта с одним из видов его — с «эмоциональною мистикою». И этим ограничивающим отожествлением отчасти объясняется преувеличенная оценка несказуемости. На самом деле мистическими бывают и чувствования, и деятельность, и познание. И конечно, мы должны говорить о мистическом опыте у Плотина, Эриугены, Николая Кузанского, Баадера, Шеллинга, Гегеля. Однако многие мистики не умеют, не способны приближать других к узреваемому и переживаемому ими с помощью рациональных понятий и приемов. Многие мистики в силах обозначить постигаемое ими лишь образно либо символически или только по эмоциональному качеству. Но (независимо от ценности постигаемого, которая во всех видах мистики может быть очень различною) в этом не достоинство, а недостаток. Я. Б е м е гениален не в силу своей непонятности, а несмотря на его непонятность.
Есть разные степени мистической одаренности; но в той или иной мере (иногда, правда, ничтожной) она свойственна всякому человеку. И долг всякого человека, одаренного разумом, вовсе не в том, чтобы пренебречь этим даром Божьим и слепою верою принимать все, что «открывается» святым и гениальным мистикам. — Мы должны возможно больше понять и поняв проверить и оценить. Отсюда не вытекает права на легкомысленное и поспешное отрицание того, что нам к а ж е т -с я «непонятным» и «неубедительным», но — только повелительный долг достичь такого состояния, когда мы поймем и поняв сможем принять или отвергнуть. Отрицание — нечто совсем иное, чем сомнение; и надо научиться ждать и до времени воздерживаться как от необоснованного отрицания, так и от слепой или, еще хуже, смиренничающей веры. Это воздержание вовсе не совпадает с пассивным равнодушием. Оно содержит в себе жадное искание и тяжелые муки сомнений. Оно — наш религиозный долг. И выход из него не в самоуничижении святоши, не в забвении и не в попытке утвердить свою ограниченно–субъективную мысль, а в обретении истинной достоверности.
Несказуемость не авторитет и не удостоверение Истины, хотя истина и несказуема, а — призыв к исканию ее. На неизреченность мистического опыта ссылаются мало знакомые с мистикою люди, наспех перелиставшие несколько мистических творений и пришедшие от них в состояние восхищения, не восхищения. Ссылаются на нее еще и тайные или явные, сознательные или бессознательные позитивисты. Они делают этим красивый и великодушный жест. — «Вот какая у нас широта взгляда и какое беспристрастие! Мы — ревнители точного знания; и не говорим ни да, ни нет о том, чего сами не испытали. Может быть, и существует какой–то неоспоримый мистический опыт. Но он — субъективен и несказуем, и, не обладая им, мы не считаем себя в праве на него ссылаться». — Подумаешь, какое беспристрастие! Да ведь на самом деле подобное «беспристрастие» и подобная «ревность об истине» — изподтишное отрицание и религиозное равнодушие. И хорошо «точное» знание, которое отворачивается от познаваемого, не сделав даже попытки на него посмотреть! Не только отворачивается, а еще и других тому же учит, так как «благородный жест» весьма действует на легковерных поклонников «точной» науки.
К несказуемости мистического опыта взывают еще люди маловерные или верующие робко. Для них слова мистиков не убедительны, а — верить хочется. В подобном же случае очень успокоительно действует укрепление своей веры ссылкою на авторитет «несказуемости»: и сомнения ослабевают до незаметности, и никакого религиозного труда не нужно, так как — «где же нам, слабым людям, постичь непостижимое!» Но тут боязливые маловеры неожиданно обнаруживают в себе, вместо благочестия, закоренелую лень и большое сходство со всеми «любителями таинственного», с посетителями спиритических сеансов и теософическими дамами. Впрочем, более злостными являются ссылки на неизреченность со стороны религиозных самозванцев, по прежней терминологии — лжепророков. Надо быть справедливым и к ним. — Временами им нечто чуется. Иногда над ними проносится Божественное. И они только не хотят потрудиться над уяснением смутно почуянного, а предпочитают успокоиться на признании того, что мелькнуло в их сознании, за «несказуемое», себя же — за ясновидцев.
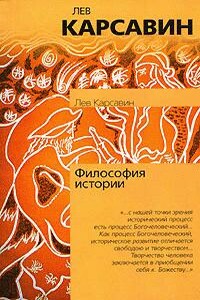
Л.П.Карсавин – подлинный столп православной российской философии XX века, человек сложной, трагической судьбы – и удивительно чистой, прекрасно традиционной философской концепции.«Философия истории» одно из главных философских произведений автора.
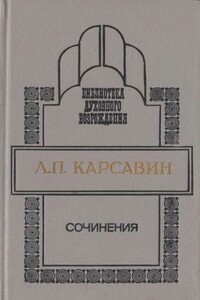
Двадцатитомная «Библиотека духовного возрождения» откроет отечественному читателю широкую панораму идейных и философских исканий российских мыслителей начала XX века.В настоящий том вошли избранные сочинения Л. П. Карсавина (1882— 1952), охватывающие все темы и периоды творчества этого оригинального мыслителя: от ранней медиевистики до последних лагерных религиозно–философских работ. Большинство из них печатается на Родине впервые. Наряду с философией, представлены статьи по истории культуры, о церкви и православии, о России и революции.
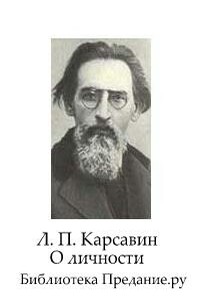
Л. П. Карсавин — один из крупнейших русских философов XX столетия, видный историк и культуролог. Созданная им религиозно–философская система завершает исторический путь русской метафизики всеединства — главного и оригинального направления религиозной мысли в России, основанного Вл. Соловьевым. Настоящий том включает две завершающие работы Карсавина. Книга «О личности», изданная в Каунасе в 1929 г., лучшее и важнейшее произведение философа, синтез его системы. Исходный pdf - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4040954.
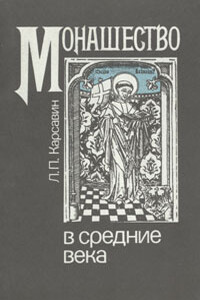
Работа Л. П. Карсавина «Монашество в средние века» вышедшая в 1912 г., – первая и до сих пор единственная обзорная книга на русском языке по истории средневекового монашества в Западной Европе. В ней рассматриваются такие вопросы, как истоки монашества, распространение устава св. Бенедикта, рыцарские и нищенствующие ордена, религиозные организации мирян и др.
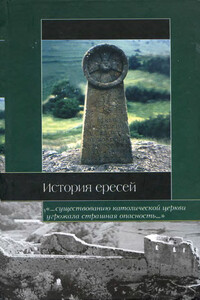
Книга посвящена истории еретических учений от гностиков до альбигойцев. В настоящее издание включены работы выдающихся отечественных исследователей Льва Карсавина, Николая Осокина, Александра Веселовского, а также фрагмент капитального труда Генри Чарльза Ли «Инквизиция». Все работы сопровождаются комментариями.

Мировыя религии Л. П. Карсавин КатоличествоФототипическое издание Издательство "Жизнь с Богом" Foyer Oriental Chrétien 206, Av. de la Couronne В 1050 Bruxelles Dépôt légal 1974 0362 3. Imprimé en Belgique.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.