О каком искажении Библии говорил Пророк? - [2]
Если же полагать, что в айате подразумевается Тора времен пророка Мухаммада (и такое мнение нам кажется более правдоподобным), то последующие айаты (2:76-77) разъясняют суть «искажения»: иудеи скрывали данные им в Торе откровения, благовествующие о приходе нового посланника Божьего, Мухаммада. При обоих толкованиях, значит, речь не идет о фальсификации текста, но лишь о сокрытии его или о неправильной его интерпретации.
В айатах же 4:46, 5:13 и 5:41 повествуется об аравийских иудеях времен пророка Мухаммада, которые искажали калим, «слово/речь». Но и здесь контекст айатов недвусмысленно свидетельствует, что никакого отношения к изменению текста Библии они не имеют. Более того, в первом айате и вовсе не говорится о Библии. Ибо полный текст айата звучит так: «Среди иудеев встречаются такие, / Кто искажает речения / И говорит [Пророку]: / «Сами‘на ва‘асайна», / «Исма‘ гайр мусма‘» и «ра‘ина», / Искривляя [слова] своими устами / И глумясь над [основателем новой] веры. / Если бы они сказали: / «Сами‘на ваата‘на» / «Исма‘» и «унзурна», / Было бы лучше и честнее…»
Как видно, в айате обозначены некоторые мединские иудеи, которые в беседе с Пророком имели обыкновение подбрасывать едкие замечания, обыгрывая двоякие значения арабских слов или их звучание на арабском и близком к нему еврейском языках. В обращении к нему они произносили формулу, употреблявшуюся ими во время богослужения на иврите: «Шама‘ну ва‘асину» — «Слушаемся и повинуемся», что соответствует «Сами‘на ва ата‘на» на арабском и что в слегка измененной форме звучит так: «Сами‘на ва‘асайна» — «Слышали, но ослушаемся». Точно также выражение «исма‘ гайр мусма‘» может означать: «Слушай, да не услышишь [ничего дурного]», или по-другому: «Слушай, да не будешь больше услышан», иначе говоря: «Чтоб ты сгинул». И наконец, «ра‘ина» это обращение, являющееся краткой формой от «ра‘ина сама‘ак», «обрати на нас свой слух», «выслушай нас» и допускающий толкование: «о, наш пастух» (от ра‘и — пастух), и еще: «о, наш безрассудный» (от глагола ра‘уна, «быть безрассудным»). В отличие от ра‘ина слово унзурна («обрати на нас свой взор», т.е. «выслушай нас») не допускает подобной игры слов.
Также и в айате 5:41 последующие слова четко разъясняют, какое «искажение речений» допускают иудеи: «Они говорят: / Если [Мухаммад] явит вам такое-то [предписание], / Примите сие, / А коли не оно, остерегитесь». По-видимому, о том же «искажении» речь идет и в айате 13 той же суры 5. И в этой суре, значит, «искажение» связано не с фальсификацией текста Библии, а с неправедным отношением к учению Пророка, поскольку они добивались от него не того решения, которое соответствует Божьему Закону, а того, что удовлетворяет их собственные склонности.
Согласно одному широко распространенному преданию, обычно приводившемуся в классических толкованиях к айату 5:41, как-то к Пророку обратились иудеи по поводу мужчины и женщины, обличенных в прелюбодеянии. Сами иудеи к тому времени уже не применяли к прелюбодеям положенное по Торе наказание в виде побивания камнями, но ограничивались бичеванием с опозориванием. И они надеялись, что Пророк станет санкционировать такую их практику. При этом они про себя решили: если Пророк присудит виновных к бичеванию, они примут его судейство, и это станет оправданием для них перед Богом, раз какой-то пророк Божий рассудил таким образом, но коли он приговорит к побиванию камнями, то не признать его суд. Но Пророк вынес решение в соответствии с предписанием Торы.
В одной версии этого предания говорится, что в споре с мединскими иудеями, отрицавшими наличие в Торе предписания о побивании камнями, Пророк требовал обратиться к самому Писанию. Когда принесли Тору и раскрыли ее, кто-то из иудеев, прикрыв ладонью стих о побивании камнями, огласил предшествующие и последующие стихи. Нечестивца разоблачили, и иудеям ничего не оставалось, как признать наличие в Торе данного стиха (Б 4556; М 1699). Сообщают также, что, когда принесли Тору, Пророк взял подушку и подложил под Писание со словами: «Верую в тебя и в Ниспославшего тебя» (Д 4449). И еще передают, как Пророк в знак уважения привстал, когда вынесли Тору [Ибн Касир, 1990, т. 2, с. 148].
Поэтому если «искажение» в айате 5:41 и связано с Торой, то лишь в том плане, что мединские иудеи неправильно истолковывали ее положение о наказании прелюбодеев, изменив побивание камнями на бичевание. Следовательно, все айаты, в которых явно сказано об «искажении» и на которые преимущественно ссылаются сторонники тезиса о фальсификации библейского текста, ни в коей мере не подтверждают этот тезис.
Не подтверждают данный тезис и остальные айаты. В частности, слова айата 3:78 о тех, кто «искривляет (йальвун) Писание своими языками, / Чтоб вы приняли сие [искривленное] за Писание, / Хотя вовсе не Писание оно, / И говорят: «От Бога это». / А ведь не от Бога оно / Сознательно навет возводят они на Него», может означать лишь неправильное толкование смысла соответствующих библейских текстов. О том же искаженном толковании, но уже в письменно зафиксированном виде, говорится, по-видимому, в айате 2:79 — «Сочиняют [вставки к] Писанию, / Выдавая их за [разъяснения слова] Божьего».
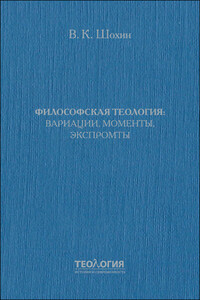
Новая книга В. К. Шохина, известного российского индолога и философа религии, одного из ведущих отечественных специалистов в области философии религии, может рассматриваться как завершающая часть трилогии по философской теологии (предыдущие монографии: «Философская теология: дизайнерские фасеты». М., 2016 и «Философская теология: канон и вариативность». СПб., 2018). На сей раз читатель имеет в руках собрание эссеистических текстов, распределяемых по нескольким разделам. В раздел «Методологика» вошли тексты, посвященные соотношению философской теологии с другими форматами рациональной теологии (аналитическая философия религии, естественная теология, фундаментальная теология) и осмыслению границ компетенций разума в христианской вере.
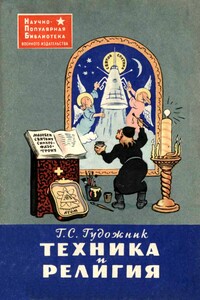
В брошюре раскрывается атеистическое содержание технического прогресса. Автор объясняет, что техника, являясь, по выражению Маркса, «овеществленной силой знания», наглядно и убедительно показывает несостоятельность религиозного учения о неспособности человека познавать окружающий мир и преобразовывать его в своих интересах.

В статьях рассматриваются вершинные произведения искусства "Мадонна" Рафаэля и "Великий инквизитор" Достоевского в христианской перспективе. Лекции - это пословная запись лекции прочитанной в ГИТИСе (Москва) 16 апреля 1987 даёт представление о стиле и манере Сергея Сергеевича Аверинцева.

В оригинальном издании (Crisis of Conscience, Third Edition, Commentary Press, Атланта, США, 2000, www.commentarypress.com), с целью подтверждения достоверности приводимых в книге документов (писем и цитат из публикаций), приводятся их фотокопии. При издании русского перевода «Кризиса совести» (Москва, «Триада», 2000, www.triad.ru) эти фотокопии (на английском языке) были также воспроизведены, после чего приводился их перевод. В этом файле все материалы даются в переводе. Перевод интернет — варианта книги может отличаться от перевода, изданного «Триадой».Этот файл приводится в Интернете на www.jws.by.ru и www.geocities.com/krizissovesti с разрешения Commentary Press.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.