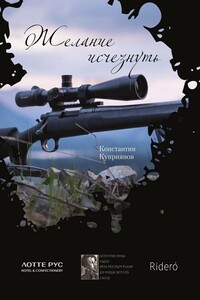Гордеев переехал в маленький город, где все всех знают. Он устроился в школу учителем литературы. Ученики полюбили Гордеева, потому что большую часть урока вместо того, чтоб рассказывать о писателях-классиках, он рассказывает о блестящих расследованиях, в которых ему довелось поучаствовать. Никто ему не верит, но его все равно любят. Больше других странного учителя полюбила ученица шестого «Б» Диана Макарова. Она хотела написать Гордееву любовное письмо, просидела целый вечер над вырванным из тетрадки листком в клеточку, но так ничего и не написала. Живет Гордеев один в однокомнатной квартире. Он не читает газет, не смотрит телевизор и не сидит в Интернете. У него есть маленький аквариум, рыбки в котором время от времени дохнут, потому что Гордеев забывает их покормить. Он спускает умерших рыбок в унитаз и покупает в зоомагазине новых. В антикварном буфете за стеклянной дверцей стоит чашка. Гордеев никогда из нее не пьет, но любит разглядывать. В конце ноября ему в первый и в последний раз позвонила Надя. Они болтали о разных пустяках. Среди прочего Надя рассказала Гордееву об одном знакомом фотографе по имени Рома. Выставка «Бритый лобок и Знамение» принесла тому широкую известность в узких кругах города С.-Петербурга. Они посмеялись. В конце беседы Надя призналась, что выходит замуж. Гордеев хотел спросить, за кого, но не спросил. Надя сама рассказала: за молодого преподавателя, в жизни которого есть какая-то страшная тайна.
— Надя, а как же отец? — спросил Гордеев.
— Он опять против, — весело ответила Надя. — Говорит: «Ты же ребенок, ты до сих пор еще сущий ребенок».
Гордееву в Надиной напускной веселости почудилась обреченность. Однако он ей ничего не сказал, только пожелал счастья и повесил трубку. Больше они никогда не виделись и не разговаривали.
Что касается черной твари, высокой, как колесо обозрения, то я часто ее вижу. Она говорит мне, что все хорошо. Что спешить некуда. Что можно вздремнуть часок-другой. Она говорит, что любит меня и что я единственный в своем роде, а во всех моих неудачах винит кого-то другого. Она берет меня за плечо, подводит к кому-нибудь и говорит: это твой злейший враг. И я вижу, что это действительно мой враг, и ненавижу его. Ей нравится стоять у меня за плечом. В ее сиплом дыхании мне чудится запах свежей могилы и разложения. Вечерами я вижу ее за окном. Она стоит, возвышаясь над крышами домов, и ее голова теряется в звездах. Она шепчет мне что-то своим ласковым голосом. Я не могу разобрать слов, но, наверное, это колыбельная, потому что мне хочется спать, мне так сильно хочется спать, господи, как же мне хочется спать.
• • •
Этот, а также другие свежие (и архивные) номера "Нового мира" в удобных для вас форматах (RTF, PDF, FB2, EPUB) вы можете закачать в свои читалки и компьютеры на сайте "Нового мира" - http://www.nm1925.ru/
Зубарева Вера Кимовна— поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Одессе. Преподает в Пенсильванском университете. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет на русском и английском. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Нева», «Новая юность», «Посев» и других. В нашем журнале выходила ее статья «Тайнопись. Библейский контекст в поэзии Беллы Ахмадулиной 80-х годов» («Новый мир», 2013, № 8). Живет в Филадельфии.
Что побудило Веру Зубареву, поэта и филолога, профессора Пенсильванского университета в США, автора нескольких книжек лирических стихотворений и издаваемых по-английски и по-русски трудов о наших классиках, — что понудило ее написать эту гротескную поэму, полную озорной насмешливости и мрачной иронии? Вероятно, то же, что в отдаленные от нас времена подсказало Алексею Константиновичу Толстому его знаменитое «Послание М. Н. Лонгинову о дарвинисме» (декабрь 1872 года).
Казалось бы, тогдашний повод прямо противоположен нынешнему: Толстой во имя свободы мысли защищает Дарвина от запретительных мер главы ведомства по делам печати (своего доброго приятеля, между прочим); автор же «Трактата об Обезьяне» защищает ту же свободу мысли от нынешних истолкователей Дарвина. Между тем мишень у обоих поэтов одна — агрессивное превращение научной доктрины во властительное орудие идеологии и политики, в орудие господства над инакомыслящими. И — попутно: примитивизация и варваризация самого научного климата в обществе.
А. К. Толстой, христианский поэт-мыслитель, около полутораста лет назад уже отлично понимал, что эволюционная теория, связываемая с именем Дарвина, не противоречит истинам веры, если с недобросовестным умыслом не изготовлять из нее атеистическую агитку: «Отчего б не понемногу / Введены во бытиё мы? / Иль не хочешь ли уж Богу / Ты приписывать приёмы», — шутливо упрекает Толстой своего адресата за «скудость веры» и добавляет со ссылкой на «еврейское преданье»: «И, по мне, шматина глины / Не знатней орангутанга». (Из статьи биолога и антрополога Г. Л. Муравник «Человек парадоксальный: взгляд науки и взгляд веры», напечатанной в «Новом мире», в № 2 за 2001 г., наши читатели могли узнать об эволюционном — «понемногу» — введении в бытие человеческого организма и о чудесном, скачкообразном его одухотворении — о том, что же имел в виду старый поэт.)