Новый мир, 2011 № 07 - [4]
Потому что это не только я на них смотрю — они т о ж е смотрят на меня. В какой-то момент я вдруг ощущаю это так же доподлинно и с необъяснимой точностью (даже тебе не сумела бы объяснить!), как когда-то, много лет назад, — в Софийском соборе, куда вбежала из сумятицы полубессонной ночи, взбудораженная не столько даже событиями, сколько — гораздо глубже — предчувствием первых широкомасштабных жизненных перемен, которые подступали отовсюду одновременно, оповещая о конце юности, — касса только что открылась, и я была первой посетительницей, одна-одинешенька в гулкой, настороженной тишине храма, где каждый шаг по пугающему металлическому полу отдавался аж на хорах, — и, стоя так на дне темно-медового сумрака, отрешенно засмотревшись на скошенный столп солнечных пылинок, внезапно ощутила словно толчком в грудь: с противоположной стены бокового нефа прямо на меня смотрел с фрески седобородый мужчина в голубом сборчатом плаще до пят, сложив плотно, одна к другой, сухие ореховые ладони, — у меня слегка закружилась голова, будто тронуло изнутри пушистой лапкой, какой-то неявный промельк всколыхнул воздух, что-то сместилось, я подошла ближе, но мужчина уже смотрел в другую сторону: какой-то монах или боярин, потемневшее от времени лицо того типично украинского, четко очерченного, но в то же время мягкого, как в старых горах, рельефа, который и сейчас легко встретить и опознать в некоторых лицах тех же дядек с Бессарабки, и только глаза, невозмутимо-темные, отягощенные всезнанием, выделялись, словно не вмещаясь, и казалось, он вот-вот вновь обратит их на меня. Не выдержав, я отвернулась первой и тогда увидела то, чего никогда не замечала раньше, словно изменилось освещение: собор был живой, населен людьми — на всех стенах и сводах так же молчали размытые веками, поблекшие женщины и мужчины, и у каждого были такие же нездешние, полные экклезиастовской печали всеведения глаза, — и все эти глаза в и д е л и меня, я стояла словно на виду посреди толпы, только толпа эта не была чужой: они принимали меня так ласково и понимающе, точно знали обо мне всё, куда больше, чем я сама о себе знаю, — и в этом медленном растворении, комочком масла в теплой воде, в их отовсюдных взглядах (трудно сказать, сколько это длилось, потому что время остановилось) мне внезапно открылось, как очевиднейшая вещь на свете, что эти люди жили не просто тысячу лет назад, они жили — в с ю э т у тысячу лет, вбирая оком все, что проходило перед ними, и теперь их глаза, их очи, представляли собой чистую квинтэссенцию времени — насыщенный раствор, плотно, как спрессованные атомные ядра, сжатые сгустки миллениума.
А я стояла перед ними смертная — мне едва исполнилось восемнадцать, я тогда еще и женщиной, по правде говоря, не была (вот как раз вскоре после этого и стала!), так что, может, это было прозрение из разряда тех, что классифицируются в богословской литературе как видение отроковиц, — в любом случае никогда потом, ни в одном из тысячелетних священных мест, ни в афинском Парфеноне, ни на оголенной плоскости Иерусалимского храма, ни в Гефсиманском саду, — нигде больше те, видимые или невидимые, их постоянные, многовековые обитатели не принимали уже меня за свою: единственное, что я где-либо ощущала, даже когда удавалось остаться с ними один на один, — это была их настороженность, не угрожающая или отталкивающая, а вроде затаенного дыхания, словами это можно выразить примерно как: «Чего тебе, женщина?» И они совершенно правы, признаю: действительно, что мне до них? Однажды приняв мужчину, женщина неизбежно переходит в иную зону притяжения — сама напрямую впадает во время, как в вязкий поток, всей тяжестью своего земного тела, с маткой и придатками, этим живым хронометром, включительно, — и время начинает течь сквозь нее уже не в чистом виде (ибо в чистом виде оно вообще не течет — стоит недвижимо, как тогда в Софии: одним сплошным озером подсвеченного темно-медового сумрака...), а воплощенным в род, в семью, в бесконечную хромосомную цепочку умирающего и воскресающего, пульсирующего смертной плотью генотипа — в то, что в конечном итоге принято называть, за неимением более точного термина, человеческой историей. Как в физике — последовательное подсоединение (нет, САМОподключение!) в цепь: отскочить, чтоб посмотреть со стороны, уже не выйдет. Шла бы в монашки — тогда пожалуйста.
И вот теперь я не знаю, что делать с этим новым ощущением: они смотрят на меня со старых фотографий так, будто я им что-то должна. И я и правда смущаюсь и никну под их тяжелыми и тоже далеко простирающимися за пределы заснятого мгновения взглядами — я не уверена, что понимаю, чего, собственно, они от меня ждут (так, будто не вполне доверяют, присматриваются, действительно ли я гожусь их семье в невестки и насколько вообще серьезны мои намерения, — о боже, что за глупости лезут в голову...) — эти женщины в шляпках котелком и в платьях с напуском на бедра, забрызганных солнечными бликами (погожий летний день, на заднем плане виднеются деревья, что и сейчас, возможно, там стоят, и запыхавшийся пес с высунутым языком), застегнутые на все пуговицы, спортивного вида мальчики в гольфах и бриджах, мужчины с черными, мотыльком над верхней губой, усиками, которые позже станут называть «гитлеровскими» (но Гитлер еще не пришел к власти, и за Збручем еще не укладывают в селах штабелями заживо высохшие человеческие тела-скелеты, и Лемик еще не стрелял в консула Майлова, а Мацейко — в министра Перацкого...), — и послевоенные, уже в несравнимо более убогих одеждах: те, кому удалось уцелеть, недобитки, или лучше по-английски — survivors: а вот, кстати, и крошечное фото из ссылки — с низкими, гнетуще однообразными сопками на горизонте (Колыма? Забайкалье?..), на переднем плане худощавый уже не по-спортивному, а вполне по-плебейски, от истощения, парень в мешковатом пиджаке со страхолюдными «терминаторскими» плечищами и молодая, завитая, словно пудель, женщина — тоже в пиджаке с накладными плечами, оба смеются в объектив, сблизив головы, руки при этом у обоих за спиной, будто все еще по вохровской команде, но смеются искренне, от души чему-то радуясь, а чему там, спрашивается, было радоваться?.. (В том, как собраны морщинки вокруг рта мужчины, сквозит что-то мучительно знакомое, будто дежавю или сон, который не можешь вспомнить утром, ну да, я, должно быть, видела точно такое выражение у тебя — мельком, потусторонним коротким дуновением по лицу: пронеслось — и нет, привет от покойника, который только так и способен еще изредка напомнить о себе, и если присмотреться хорошенько — а чем же еще, по-твоему, я тут все время так ненасытно занимаюсь? — то во многих лицах можно разглядеть что-то твое — что-то неуловимо видоизмененное, но общее для всех, будто пятнами скользящий по лицам свет невидимого фонарика выхватывает из темноты тебя то в случайном изломе черт, то в повороте головы: вот-вот оно, почти что сошлось, но опять лишь «почти», и сон неузнавания продолжается, постепенно переходя в кошмар, словно я преследую убегающий призрак...). Это мой двоюродный дед, представляешь ты с оттенком невольной торжественности (или это мне так только чудится), я мысленно проговариваю: двоюродный — значит, брат деда по отцу, — губы нелепо растягиваются в улыбке хорошо воспитанной девочки, которая старается понравиться взрослым, очень приятно, — но вдруг глаза застилает ослепительно дрожащая пелена слез, я торопливо сглатываю и смаргиваю их, чтобы ты не заметил, — как все «мамины мальчики», ты автоматически воспринимаешь женские слезы как упрек в свой адрес, мгновенно темнея лицом, словно от удара, будто, кроме как из-за тебя, женщине больше не из-за чего на свете плакать, — извини, родной, но я не в силах больше обмирать от этой безумной вселенской нежности, которой подплываю, словно кровотечением, этой нутряной, утробной, животной жалости — то ли к покойникам, к их молодости, к их неслышным отсюда разговорам и смеху и к их пронзительно-жалящему, ребяческому неведению о том, какой непроглядный мрак ожидает их впереди, то ли, может, и к нам с тобой жалости — к двум сиротам, брошенным на произвол судьбы, как Ганс и Гретель в темном лесу, двум одиноким выкидышам, вышвырнутым на берег нового столетия натужным усилием стольких погубленных поколений мужчин и женщин, которые в конечном счете только и смогли, что произвести нас на свет, с чем их следует посмертно поздравить, ведь большинству их ровесников и того не удалось... Ну не плачь, ну что ты (с потемневшим, как от удара, лицом и мгновенным рефлекторным движением — прижать меня к груди, погладить по голове, успокоить...), — не буду, извини, пожалуйста, уже все. Давай дальше — к шиньонам и болоньевым плащам шестидесятых, к тому, что выныривает уже из живой, детской памяти, не фотографическим видением, а вполне объемным, на ощупь и запах: я помню, как ужасно шуршал такой плащ, когда мы, дети, прятались под ним в шкафу, ой, и зайчик такой у меня тоже был, в коротких штанишках и с кружевным жабо! вот только не помню, что он делал, когда его заводили, — барабанил, да?..

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
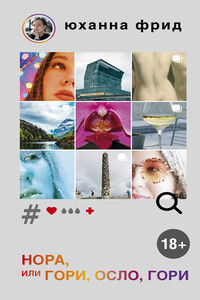
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
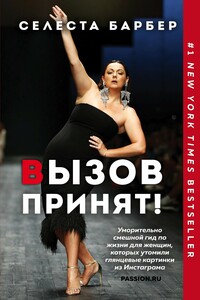
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
