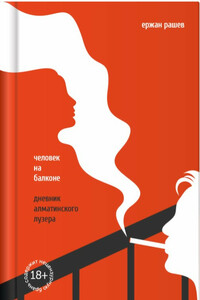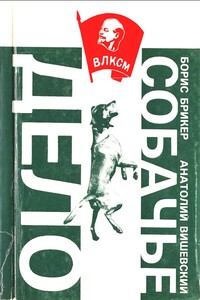Я даже перепугался — тогда на такой кружочек можно было год снимать квартиру — если это не был новодел семьдесят пятого года. Эти новоделы были тоже дороги — их раньше продавали за доллары иностранцам и вот только сейчас выпустили в свободный полет.
— Не пугайся, — сказал он. — Видишь гурт? Он почти в два раза толще — так они добирали вес. Так что это подделка, не платежное средство, а так — тебе для памяти. Но это “настоящий” фальшак, оттуда, из двадцатых.
Потом он исчез. Его не застрелили, как это было в моде, не взорвали — он просто исчез. К нашим общим знакомым приходили скучные люди в галстуках, расспрашивали, да так и недорасспросили.
Я тогда жил в иностранном городе К. и узнал об этом с запозданием.
Но я-то знаю, что с ним случилось. Услышав, как недобрые люди ломятся ему в дверь, он сорвал картину со стены своего кабинета, будто испуганный Буратино, и вошел в потайную дверцу. Стена сомкнулась за его круглой спиной. И вот он до сих пор сидит там, как настоятели Софийского храма. Перебирает свои сокровища, с лупой изучает квитанции и боны. А если прижать ухо к стене, то можно услышать, как струятся между пальцами червонцы — шадровский сеятель машет рукой, котомка трясется. Картина на самом деле — окно в славный мир двадцать второго года. Мой друг лежит на поле, занятый нетрудовыми размышлениями. Чадит труба на заднике, и разъединенные пролетарии всех стран соединились.
Кабанов Александр Михайлович родился в 1968 году в Херсоне. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Автор пяти поэтических книг. Главный редактор журнала “Шо” (Киев); живет в Киеве.
* *
*
как его звать не помню варварский грязный город
он посылал на приступ армии саранчи
семь водяных драконов неисчислимый голод
помню что на подушке вынес ему ключи
город в меня ввалился с грохотом колесницы
пьяные пехотинцы лучники трубачи
помню в котле варился помню клевали птицы
этот бульон из крови копоти и мочи
город меня разрушил город меня отстроил
местной библиотекой вырвали мне язык
город когда-то звали Ольвия или Троя
Санкт-Петербург Неаполь станция Кагарлык
там где мосты играют на подкидного в спички
город где с женским полом путают потолки
на запасной подушке вынес ему отмычки
все мое тело нынче сейфовые замки
и заключив в кавычки город меня оставил
можно любую дату вписывать между строк
кто-то сказал что вера это любовь без правил
видимо провокатор или Илья-пророк
а на душе потемки чище помпейской сажи
за колбасою конской очередь буквой “г”
помню как с чемоданом входит Кабанов Саша
на чемодане надпись Дембель ГСВГ1.
1 Группа советских войск в Германии.
* *
*
С отбитым горлышком лежу в слоновьей лавке,
я больше не принадлежу словесной давке.
Не отслужить мне, господа, своей повинной
в посуде страшного суда — бутылкой винной.
И в стеклотаре ни гроша за эту ересь
не получить, прощай душа — портвейн и херес!
Приедет Слон на “москвиче” (хозяин лавки),
на каждом бивне — по свече, в ушах — булавки.
При алебарде золотой и маскхалате,
он хоботом, как запятой, меня обхватит.
Посадит в клеть, и молоком наполнит блюдце,
и будет сквозь меня смотреть — как люди бьются.
* *
*
Море волнуется раз в поколенье,
раз в поколение — море, замри,
мерзлой календулой пахнут колени
и отрывные календари.
Спят под сугробами из стекловаты
папы и мамы, сжимая ремни.
Там, где поддатые красные даты,
серые будни и черные дни.
Счастье, совсем непонятное ныне,
в трещинках от молодого вина —
вдруг распадается посередине,
но успеваешь выпить до дна.
Тертые джинсы на смену вельвету,
вьюга на окнах плетет макраме...
Родина, где тебя носит по свету?
Родина, кто тебя держит во тьме?
Мы — отрывные, летящие в гору,
чтобы упасть от любви и тоски,
будто червонцы — на лапу Азору,
возле гостиницы “Нью-Васюки”.
* *
*
И выпустил фотограф птичку
мои выклевывать глаза,
и слепота вошла в привычку —
ночные слушать голоса,
все эти колкости акаций,
взахлеб хохочущий песок,
и музыку из рестораций,
летящую наискосок,
шушуканье в татарском чане
шурпы, увитую плющом
беседку и твое молчанье,
еще молчанье и еще.
И эту рукопись в прибое
сожги и заново прочти.
Люблю тебя и слепну вдвое —
и мы невидимы почти.
* *
*
Желтое в синем, желтое в синем,
гиперборейская тьма,
приобогреем, откеросиним
и доведем до ума.
Вешние ноги, озимые груди,
выдоенный водоем.
Мы, украинцы, — сплошные верблюди
в желто-блакитном своем.
Вспомнишь про счастье, а выплюнешь горе
и, от России храня,
на побережье в голодоморе
ты доедаешь меня.