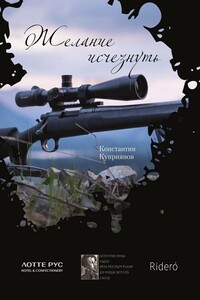— Как, это вы? — говорит корректор.
Я наскоро проверяю то, что уже проверено, и выцарапываю Мазурика из-под телефона.
— Так мы договорились, Евгень Саныч?
— Конечно!.. Давай, эт самое, давай...
Я ухожу. Сколько раз еще приду? В плоские декорации, где сотрудники проводят все дни? И нигде не ждет меня лучшая доля.
Вечером с полки, на которой темнеют корешки книг, беру первый попавшийся том. Здесь бок о бок: “Гарденины” Эртеля, Гоголь, “Угрюм-река” Шишкова, трактаты Аристотеля, господин Йозеф Вильгельм Шеллинг, сумасброды французы Деррида со товарищи, а еще Симфония на Ветхий и Новый Завет, “Добротолюбие”, этнографическая книжка “Русские: семейный и общественный быт”, “Как закалялась сталь” Островского и прочее… Словом, с бору по сосенке.
На сей раз подвернулся Айтматов, его и читаю: “А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе… Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце…”
В это надо вслушаться. Здесь бурлит не то кипение, которое возможно изобразить из себя, сидя с утра до вечера в редакции. Чтобы написать так, надо быть не маленькой столичной гадюшечкой. И желательно родиться в другом времени.
Быть, а не блазниться! К чему и призывал нас один философ... Хоть и мелкобуржуазный, как выразился бы Ванька.
Глава 3
Лермонтов
Ванька настолько яркий персонаж, что кочует из одной моей летописи в другую. (Прости, Ваня! Знаю, ты не обидишься.)
Он живет в подмосковном городе Жуковском. Здесь только гаражи и блочные пятиэтажки, и еще железная дорога, от которой во рту все время привкус железа, и трубы. Вот и весь городишко. Здесь живут Ваня и его друг Кузя. Тоже революционер. Или контрреволюционер, как они сейчас себя называют...
— Национальная идея уже столько раз переворачивалась в гробу, что сам черт теперь не разберет, где у нее право, где лево…
Парни заспорили. Я озиралась по сторонам.
Кузькина мама была немного безумная, она по всей квартире навешала на стены репродукции икон, а потом однажды в припадке выцарапала глаза всем богородицам и младенцам — я пишу здесь эти слова с маленьких букв нарочно. Остались дырки. А сами изображения не сняла, и ни у кого из домашних рука не поднялась, так и висят. Я удивляюсь, какие у здешних крепкие нервы. Полгода назад Кузькина мать объявила, что выходит замуж, и впрямь вышла. Отец от горя чуть не спился.
— Нет, я не понимаю, что уже в таком возрасте человеку нужно, — говорил Кузя.
— А сколько ей лет?
— Так ведь уже под пятьдесят! Доживай себе спокойно, ведь всю жизнь с отцом провела. Нет, ей понадобилось — короче, ушла к какому-то.
— Посмотрим, как ты запоешь, когда тебе стукнет полтинник.
Я улыбаюсь. Рассказываю ребятам, что говорила бабушка, которая приехала на днях на свадьбу к брату. На венчание. И впрямь прибыла, насыпала всяких речений. Я, говорит, ляжу полежать, а воно визьме и заснеться.
Рассказала между прочим бабушка и такую историю.
— Любка наша запанила.
Я не поняла:
— Шо зробила?
— Панной стала! Порося не держит.
— А что за Любка?
— Соседка. Та, шо ты обидела.
— Як обидела?
— А ты не помнишь? Года три она вспоминала, як ты ей вмостыла. Ты спрашивала: “У вас кролики есть? А курчата есть? А поросенок хоч есть? Як — и поросенка нема?” Вона и пошла на мене — шо мы с Таней, мамой твоей, разговаривали, обсуждали. Я ей казала, Любо, ну як бы Таня была мени невисткой, да пришла на двор, да давай расспрашивать, шо у вас есть, а чого нема, а Таня всю жизнь тут жила и все знает, и шо у вас есть, и чого у вас нема! Воно ж дитя, шо ему пришло на ум, то й телепнуло. Ну як так? Доросла людына — а обиделась на дитя, яке ще в школу не ходить. Шо ты думаешь? Год три не общались.
И резюмирует бабушка:
— Така ты була... Допытлива.
В комнату сунулась Кузькина сестра. Младшая. Зыркнула из-под рисованных бровей — и назад. Длинные ногти, покрытые бордовым лаком, соскользнули с ручки двери.
А как я колядки бабушкины записывала в клетчатую тетрадочку? Где-то тот зошит до сих пор хранится. Там есть одна, я ее нет-нет да и припомню где-нибудь в неподходящем месте, в метро или вот сейчас. Там про Богородицу, которая спускается в ад, чтобы вывести оттуда все души. Апокатастасис, ага. Все спасутся. Она ходатайствует за всех, кроме одной души: “Вона матерь полаяла — не лаяла, подумала”. Отругала мать, то есть не отругала даже, а только подумала.
— Учти, Маринка, религиозную пропаганду буду всячески пресекать! Мои предки тоже колядовали, — пробурчал Ванька. — Только про Христа и прочую религиозную чушь у них почему-то не было.
А еще бабушка сказала: первый день гость — золото, другий — мидь, а третий — до дому йидь. И выяснилось, что она с обратным билетом приехала. На послезавтра.