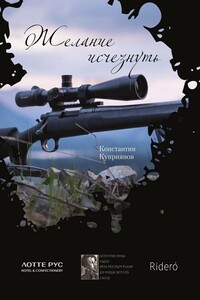Несмотря на кромешную клубную темень, Беата была в черных очках. Она все время подвывала о гибели мира и аннигиляции реальности. Она твердила о собственной исключительности, которую согласна принести в жертву изначальной войне.
— Я плохо верю, что Беата и впрямь такая мрачняжка… — сказал кто-то. — Просто сидит себе девочка-злючка и сочиняет — “Книгу скрытых равновесий” там и другое.
Ну нет, чтобы писать такое, надо все же иметь свой маленький адик в душе, лелеять его, воспитывать, взращивать. Конечно, всему этому безмерно не хватало самоиронии, все писали только гимны, воззвания и манифесты, где половина слов была с большой буквы, и, разумеется, печатали их стилизованным готическим шрифтом. Если рисовали — то драконов и волков, а если пели, то в группах “Хладный царь мира”, ну, или, на худой конец, “Врата грядущего”.
— Мы — дети равноденствия! — возгласил со сцены наголо стриженный тип с огромными, словно пушистые черные гусеницы, бровями. — Нашими шестизначными следами расчерчен чистый снег грядущей вечной русской зимы. Вселенский холод обострил наши инстинкты, в глазах зажегся огонь вечной битвы, и мы не знаем пощады!..
— Ну и череп. Просто ни в какие ворота! — сказали за соседним столиком.
— Ну что? — интересовался Максимушкин. — Как впечатления?
— Астрал! — отзывалась я.
Напротив нас методично наливался пивом поэт, в миру — преподаватель юридической академии, назовем его Дмитрий Наволоцкий. С ним сидела поддельная блондинка, испуганно взирая на происходящее. Мы с ней мимолетно зацепились взглядами, и она уронила полуутвердительно:
— Вы бываете здесь…
Она так двинула плечами, так поправила меха из тобольского тушкана, словно все происходило и впрямь в тридцатых годах в Германии, да и то не в реальной, а в кинофильме, и она сидела с офицером вермахта, чистокровная арийка, и руки ее возлюбленного Зигфрида пока были окрашены только метафизической, воображаемой, холодной кровью чуждых свету тварей.
— Знаете, с кем вы? — спросила я и наклонилась к ней через стол, так что она инстинктивно отпрянула. — С вами сидит поэт Дмитрий Наволоцкий! Великий, известный темный поэт!
— Слышишь, что она говорит, — оживился Наволоцкий. — Известный, говорит, поэт!
— Известнейший! — воззвала я, копируя интонацию стриженого со сцены. — О да, известнейший и величайший!
Актриса немого кино повернулась к нему с выражением суеверного страха на продолговатой куньей мордочке.
Я отвернулась. Мне казалось, я страшно остроумна.
И я не видела в происходящем ровным счетом ничего опасного. Так, игра недоучившихся интеллектуалов. К нам подсел барин Огибалов, историк, с холеным круглым лицом, которое он, по-видимому, мазал кремами. Сейчас он был в бархатном темно-зеленом берете. Огибалов принялся набивать трубку. Бросались в глаза его ногти — аккуратно подпиленные, блестящие, видно, полировал. Да, ноготки не хуже, чем у Пушкина с портрета Кипренского. Да и сама кожа была, по-видимому, глаже моей. Я убрала со стола свои обветренные красноватые лапы.
— Что вы думаете? — спросил он, и мне стало как-то не по себе. — В Германии все начиналось именно так. Развлечение, богемный антураж, выдумка, вера в некую чуждую капитализму эстетику. Внечеловечные ценности были настолько сильны в спящем подсознании белого человека, что оказалось достаточно игры, намека, чтобы они пробудились…
На сцене лысый малый отвернул головенку снулому голубю, и брызнула кровь, которая показалась необычайно яркой, словно демонстрировали какой-то новый, объемный фильм и капли засняли через широкоугольный объектив. Все замерли: звуки музыки, шум разговоров, движения остановились.
— Мы приносим жертву нашему повелителю! Прими ее тот, имя которого касается губ воина только в минуту смерти!
И снова ор запрыгал и заверещал над ухом.
Я встала и дернула Максимушкина за рукав:
— Пойдем, слышишь…
— Нет, я остаюсь!
Он был уже порядком пьян.
— Где ты остаешься? Посмотри, здесь ничего нет…
— Где-нибудь. Где-нибудь. Я хочу еще побеседовать с Бее… Боа... Беатой.
В гардеробе выдали шубу, успела глянуть на номерок — попытка художника придать цифре готическую строгость не удалась: красовалась вульгарно изогнутая, обремененная лишними штрихами двойка. Вообще мало похоже на цифру, скорее на рыболовный крючок.
С облегчением вышла на морозный воздух, глотнула несколько раз, как глотает спасенный из темной воды.
Колокольный звон под вечер идет грозный, размеренный, сыплет тяжелую низкую ноту, роняет ее, одну и ту же, будто каменную, повторяет возгласы — сзывает, то ли о тревоге объявляет, то ли радоваться велит.
— А вы сходили бы, постояли на службе! — тихо, словно про себя, не отворачиваясь от компьютера, уронил Константин.
Он сказал так, будто с полуупреком, но в пространство, никому не адресуясь, легким голосом — у него ясный, со всякими колокольчиковыми обертонами тенор: наверное, Константин поет — но в тот же момент мелькнуло, что это просто послышалось и вовсе не обязательно.
Он поздравил с праздником, выключил монитор и системный блок и вышел — так же легок, невесом и воздушен его шаг, как и голос.
— Что сегодня за праздник?