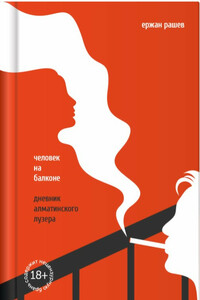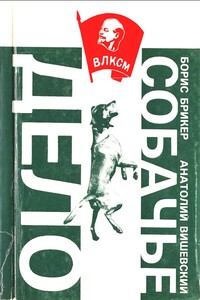Вскоре к козе добавился козел Борька. Здоровенный, обросший, с репьями в космах, он напоминал козла из «Робинзона Крузо». Был Борька замечательно вонюч, при подходящем ветре мог насмерть одушить метров за триста, также удивлял похотливостью, лез к самой бабке, та возмущенно отмахивалась: «Удди — закобелился!»
Первое, что начальник делал, прилетая в Дальний, — это велел вывесить государственный флаг. На следующий день начинал наводить порядок, вызывал подчиненных, заведующего базой, Покровского, Митю, причем обязательно соблюдая субординацию. Мог долго и басисто обсуждать с Митей посреди поселка рыбалку, а полчаса спустя Покровский суховато сообщал Мите, что его вызывают к начальству.
Жену Поднебенного звали Оструда (сокращение от индейского Освобожденного Труда) Семеновна, для простоты Ася, в народе — Семеновна. Ася встречала, из-за перегородки Поднебенный понимающе-умудренно (мол, знаю, что идешь, хоть и много работы, для всех время найду) басил: «Проходи, проходи. В кабинет». Говорил, не давая вставить слова. Митю с горящей от ветра мордой развозило, клонило в сон. Тот плел, напористо вставляя местные обороты и перемежая речь словечком «да», призванным изображать старомодную странность речи. В «кабинете», отделенном гладкой дощатой перегородкой, — полки с книгами (Сабанеев, Формозов), над столом фотопортрет Хемингуэя в бороде и свитере — намек на родство душ на основе романтизма и мужественности.
Сам себя округло окоротив, Поднебенный заводил наконец разговор о «деле». Начинал с вопроса о собаках:
— Почему опять Кучум не привязан? Я так и сказал Покровскому: в следующий раз застрелю… Да… Ну как, Мефодий не обижает? Хэ-хэ! Нет? Ну добро, иди работай!
Кирилл и вправду не обижал, но слыл трудным. Невысокий, с чахлыми усиками над небольшим упрямым ртом, с сумрачным взглядом серых глаз, издали черных, вид он имел неприветливый. По сравнению с Покровским, сочным, великолепно бородатым, щетинистым, Кирилл казался мальчиком, и одновременно какая-то тусклая сталь сквозила в неторопливых движениях, в характерном, трезвом и глухом покашливании, в привычке доводить все до конца — любой ценой и с таким порой некрасивым и натужным усердием, что окружающих он или раздражал, или уж нравился до полного поклонения. Баба Лида его не любила и называла «снулым налимом».
Изучал сложнейшие межвидовые отношения птиц, чертил блестяще четкие схемы птичьих площадок с гнездовыми участками, рассчитывал и садил ловчие сети, кольцуя, невозмутимо пыхтя папиросой, держал трясогузку в крупной кисти — с беспомощно оттопыренным крылом. Окольцованную и обмеренную высовывал через специальный рукавчик в окне на улицу и разжимал пальцы, и она долю секунды неподвижно лежала на боку, а потом исчезала.
Была у Кирилла слабость — береста. Гнул из нее туеса, пестеря для ягоды. Выдавался штормовой или с ливнем день, и к плохо скрываемой радости учетчиков Кирилл давал приказ ложиться досыпать. Встав к одиннадцати, рылся в ящиках, напевая скрипучим и неожиданным тенорком: «Где мо-я продольная ножо-овка?» на мотив: «Не жалею, не зову, не плачу…», таскался с досками, а в конце концов дотошно и аккуратно делал садок для птиц, стол или пестерь, разводя березовый беспорядок стружек, берестяных лент.
Выпив спирту, становился мягким, валким, как кукла, улыбчивым, громким и ласковым с подчиненными, которые чувствовали себя на седьмом небе от счастья, а потом голова его начинала клониться, и он засыпал прямо за столом кухни.
Митя ждал от Мефодия нашумевших статей, выступлений, а тот все что-то пересчитывал, рисовал и писал, изредка публикуя. Не доведя до конца начатое, затевал что-то все более масштабное и неподъемное и из-за своей честности и дотошности вечно оказывался в начале пути.
В сентябре, в пору черных ночей с несметным числом звезд и огромным, седым, как изморозь, Млечным Путем, Митя примчался откуда-то в полночь на лодке. Над головой шарило по небу северное сияние, воздух был ледяным, и тропинка на угор казалась особенно по-осеннему твердой. Когда поднялся, Млечный Путь еще будто навалился, и два раза чиркнуло по небу падучими звездами. Так хотелось поделиться этим студеным и будоражащим простором, разлитым на сотни безлюдных верст, что Митя сказал Мефодию, колющему дрова у своего крыльца, несколько восторженных слов о Енисее, о небе, похожем на «холодец с дрожащими звездами», а тот, вставая с охапкой поленьев и опираясь на колун, проскрипел с застарелым и усталым раздражением:
— Что же ты так все преувеличиваешь?
Митя, ничего не ответив, ушел на кухню, откуда раздавались взрывы смеха. Там знаменитый своей прожорливостью студент по кличке Бурундук рассказывал с хохотом и полным ртом летящей наружу каши, как пошел к Поднебенному за совком для брусники:
— Чешу к ним. Стучу. Выходит Поднебенный… — Кухня грохнула, потому что над фамилией начальника Бурундук произвел небольшую орфографическую операцию. — «Сергей Артурович, — продолжал рассказчик, — вы не могли бы дать мне совок?» — «А он у Оструды Семеновны». — «А где Оструда Семеновна?» — «В маршруте».
Все снова грохнули, уже над тем, что поход по ягоду подавался как научная работа.