Новеллы - [153]
У меня изношено сердце, пришли в негодность легкие, что из того? Пусть я слыву сумасшедшим, но я живу. Нет у меня ни дома, ни положения. Отправляюсь в больницу? Поверьте, никогда я не шел туда по собственной воле, своими ногами, — всегда отправляли другие, бесчувственного, на носилках. Там я приходил в сознание и сразу решал:
— Ага, вот я где! Что ж, придется снова высовывать язык.
И немедленно, охотно и послушно, без единой жалобы, высовывал его по первому требованию, чтобы поскорее оттуда выбраться.
Как занятно выглядит лицо человека — врача ли, санитара ли, — когда он стоит у вашей постели, а вы лежите и смотрите на него снизу вверх и видите черные, с вывернутыми краями дыры ноздрей и дугу рта, концами опертую на шар подбородка! А когда этот рот начинает произносить слова, вам открывается над оградой зубов уздечка верхней губы, а позади — почти все небо.
Уверяю вас, даже и не вслушиваясь в то, что изрекает рот, вы все равно теряете уважение к человечеству.
Но я пообещал рассказать вам о руке больного бедняка.
Вступление получилось длинноватое, но, думаю, не совсем бесполезное, потому что теперь вы, по крайней мере, не станете требовать от меня подробностей, которые помогли бы вам расчувствоваться на привычный манер, то есть всяких там сведений вроде:
1. Кто такой этот человек.
2. Как он очутился в больнице.
3. Чем болен...
Об этом, дорогие мои, не будет ни слова. Я сам ничего решительно не знаю, не удосужился узнать, хотя наверняка мог бы спросить у санитара. Я видел только руку больного и только о ней и могу рассказать.
Вас это устраивает? Ну что ж, слушайте.
Было это в той больнице, где я лежал в последний раз. Не делайте таких дурацких скорбных лиц, ничего душещипательного в рассказе не будет. Мне всегда удавалось установить с больницей — притом, что я терпеть не могу врачей и медицину — теплые, проникновенные отношения.
Вы только подумайте, внимание к пациентам довели там до такой утонченности, что мы не видели друг друга, так как между кроватями стояли одностворчатые ширмочки, вернее, рамы с прибитыми по углам муслиновыми занавесками, всегда безукоризненно чистыми — их еженедельно снимали, стирали и гладили. Порою вся эта белизна создавала иллюзию — тут ей на помощь приходил лихорадочный жар, — будто лежишь в облаке и вместе с ним плывешь по лазури, которая вливалась в палату через стекла огромных окон.
Справа к каждой постели в этой длинной, очень светлой, хорошо проветренной палате была вплотную придвинута вот такая рама, в вышину доходившая до верхнего края подушки. Поэтому я видел только руку моего соседа слева, когда он выпрастывал ее и опускал на покрывало. Я разглядывал эту руку с любопытством влюбленного, и мало–помалу она поведала мне историю, которую я собираюсь вам пересказать.
Ну, разумеется, поведала она ее либо жестами, скорее всего непроизвольными, либо тем, как лежала, желтая, костлявая, на белом покрывале, иногда ладонью кверху с полусогнутыми, чуть сведенными пальцами, уже совсем покорная судьбе, пригвоздившей ее к этой кровати, словно к кресту, иногда сжатая в кулак от внезапной ли судорожной боли или от приступа гнева и нетерпения, который всегда сменялся бессилием смертельной усталости.
Я понял, что вижу руку больного бедняка: пусть она дочиста отмыта по всем правилам больничной гигиены, но на ней, костлявой и пожелтевшей, точно застыл слой неистребимого пота, который, собственно, даже не пот, а патина нужды, и никакой водой эту патину не смоешь. Она была на утолщенных, немного шероховатых суставах пальцев; на их сгибах, где кожа сморщилась, точь–в–точь как на шее у черепахи; в линиях ладони, про которые говорят, будто это смерть поставила на руку человека свою печать.
И тогда я стал раздумывать, каким же ремеслом занималась эта рука.
Конечно, не черной работой — рука была хрупкая и тонкая, как у женщины, не узловатая, не деформированная, разве что последняя фаланга, указательного пальца казалась необычайно цепкой, а большой палец был всегда полусогнут и от пясти до косточки слишком мускулист.
Я заметил, что, когда кончик указательного пальца нажимал на большой, тот непроизвольно, как бы по привычке, поддавался ему, точно мой сосед, сам того не сознавая, этим нажатием призывал какую–то далеко отступившую действительность и дотрагивался до нее вот здесь, на подушечке предупрежденного таким образом пальца: действительность собственного своего существования до болезни. Может быть, магазин, где в нос ударяет острый запах новых тканей; штуки материи, аккуратно разложенные одна на другой по полкам, по скамьям, в витринах; стойка для проданного товара; стол, где лежит развернутая ткань, от которой нужно отрезать кусок, и на ней пара больших ножниц; серый кот под столом; портные, сидящие рядами и готовые в любой Момент что–то приметать, что–то пришить на машинке, и среди них — он. Ему, может, и не нравилась эта действительность; он, может, отнюдь не вкладывал душу в свое ремесло, но ремесло тем не менее было вот в этих двух пальцах, в этом большом пальце, который по привычке стольких лет непроизвольно покорялся нажатию указательного. А вокруг была нынче куда более унылая действительность: пустота и томительная праздность больничного распорядка, недуг, усталое и тревожное ожидание — чего? — может быть, смерти.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.
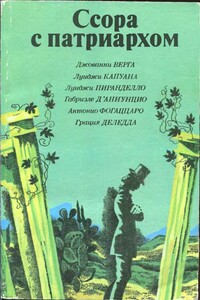
Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.
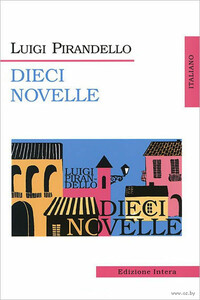
Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Материал повести «Поездка на святки» автобиографичен, как и события, о которых идет речь в важнейшем произведении Гагарина — романе «Возвращение корнета». Мотив поиска России становится ведущим в романе. Главный герой романа захвачен идеей освобождения родной страны от большевиков, насильственного возрождения патриархальной культуры. Он заново открывает для себя родную страну, и увиденное поражает его. Новая Россия разительно отличается от привычной, старой. Изменилась не только страна, изменились и русские люди, встреченные героем на дорогах жизни.
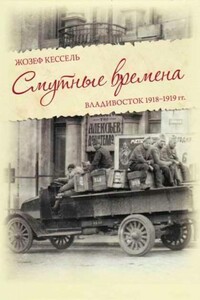
В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.
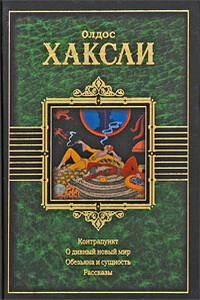
Старого художника, которого считали мёртвым, «открыли» вновь. Для него организуется почетный банкет. Рассказ вошел в сборник «Тревоги смертных. Пять рассказов» («Mortal Coils: Five Stories») (1922).

«Зачем некоторые люди ропщут и жалуются на свою судьбу? Даже у гвоздей – и у тех счастье разное: на одном гвозде висит портрет генерала, а на другом – оборванный картуз… или обладатель оного…».
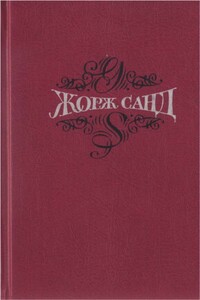
«Мопра» — своеобразное переплетение черт исторического романа и романа воспитания, психологического романа и романа приключенческого. На историческом материале ставятся острейшие общественно-политические и нравственные проблемы. Один из главных мотивов романа «Ускок» — полемика с восточными поэмами Байрона, попытка снять покров привлекательности и обаяния с порока, развенчать байронического героя.

Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.