Новеллы - [11]
— Да оставь ты в покое веревку! — с досадой восклицаю я.
Картонная коробка перестала вращаться, окошко наверху захлопнулось, я разглядел лишь руки, державшие бечевку. Но на крышке коробки резко белеет наклеенный клочок бумаги с надписью вкривь и вкось: «Я родила ночью и сразу же задушила его. Не стала дожидаться, пока он заплачет. Не уходи, я сейчас спущусь. Мария».
Чуть погодя, выходит и ока — сама не своя. Я склоняюсь к ней.
— Ты что, рехнулась?
С жалобным стоном у нее вырывается:
— Да, — и руки бессильно повисают вдоль тела.
Мы стоим на залитой солнцем улице, любой может свернуть в нашу сторону, любой может выглянуть из окна! Я вытащил ножик, перерезал бечевку. И мы пошли прочь. Тоненькая бечевка раскачивалась позади, точно петля на виселице… но мне казалось, что повесить стоило бы не меня и не Марию, а улицы и всю эту затерянную в пространстве землю, на которой родятся лишь нищета и муки.
Говорить мы ни о чем не могли. Мария бессильно повисла на моей правой руке; на левой покоился крохотный «гробик».
Прежде в нем хранился сахар, а теперь лежит труп ребенка.
И внезапно я с гневом останавливаю Марию:
— Кто надоумил тебя убить его?
Но моя милая — теперь-то я вижу! — очень странно переменилась. Безумие вплело в ее дивные темные волосы серебряные нити, с узких губ, прежде чем ей заговорить, слетали брызги слюны и бессвязный лепет… пальцы рук — как испуганно всполохнутые птицы. Она не отвечает мне, лишь идет, сама того не сознавая, и время от времени издает жалобный стон.
Небосвод залит лилейной белизною, а лучи похожи на золотистых пчел. И пахнут эти желтоватые лучи воском, отчего мне приходят на память поле, цветы, еда и питье и та пора, когда у меня еще не было возлюбленной. И попадись тогда мне в руки такая коробка из-под сахара, я бы вылизал языком все четыре уголка…
Сейчас же я низко нахлобучил шляпу, скрыв под нею багровеющее лицо. Жар прихлынул к щекам, нос покрылся капельками пота и заблестел. Прижатая к груди коробка, должно быть, прогрелась, сердце мое билось под нею, и мне захотелось открыть ее и заглянуть внутрь: вдруг да мертвое дитя преобразилось в живое и резвится там?
Мария вывела меня из тоскливого раздумья: дернула меня за руку и испуганно залепетала.
— Слушать не желаю твой бессвязный лепет! — окрысился я на нее. — Ты вот лучше скажи, куда мне с этим деваться и что делать?
К тому времени мы достигли оживленной части города, где машины неслись наперегонки с трамваями. Пообок простирался открытый рынок; отчетливо можно было различить груды овощей и зелени, одежды торговок и плотно сбитую человеческую массу. Мы знай себе шли, хотя любой мог подойти к нам и поинтересоваться:
— Чем торгуете? — а наклонясь к коробке из-под сахара, без труда сумел бы прочесть: «Я родила ночью и сразу же задушила его…»
— Ты не иначе как спятила! — говорю я Марии и продолжаю еще ожесточеннее: — Зачем ты это сделала?
Она молчит, лишь смотрит, смотрит прямо перед собой, и в ответ на мой вопрос из ее дивных голубых глаз катятся жемчужины, одна за другой, все чаще… Я знаю — это плачет ее сердце, сейчас она кается в содеянном, однако вздумай полицейский на ближайшем углу спросить ее: «Кого вздернуть на виселице вместе с тобой?» — она укажет на меня.
Я поспешно увлекаю ее в сторону.
— Не плачь, голубка моя, — говорю ей, — мы с тобой тут не виноваты. Правда, грудь твоя полнилась бы молоком, а я мог бы и голодать, как прежде…
Тут молчание Марии прерывается; сквозь пелену слез доносятся ее слова:
— У меня с перепугу даже молоко пропало…
Я качаю головой.
— Господи боже, зачем ты такое содеял? — и подымаю глаза к небу.
Мне не раз доводилось взывать к царю небесному; случалось, он даже снился мне во сне. Помнится, в ту пору я тоже жил впроголодь, и он явился мне в облике ярко-красного арбуза. Я не признал его — думал, арбуз как арбуз, пока он не сообразил обрамить свой лик бородою. Тут-то мне стало ясно, что передо мною — всемогущий, и я пожаловался, что у меня нет возлюбленной.
— Нет, так будет, — заверил он меня. — Но, прежде чем за девицами бегать, надобно сперва насытиться, как следует, отъесться…
Мне до стыда неловко, что в голову лезут разные глупости, ничтожные мелочи, легкомысленные сны. Лишь теперь, когда мы затесались в толпу и идем среди базарного люда, словно в коробке у нас золото и на него можно купить, что душа пожелает, — лишь теперь осенило меня: что же мы делаем?
Меня охватывает необычная смелость:
— Мы несем безвинного младенца, которого сами же убили. Да, да, мы и есть убийцы.
Множество людей смотрят на нас, смотрит и полицейский, но никто не проронил и слова; ведь им не дано прозреть сквозь черный картон. Вот если бы из коробки сочилась кровь, оставляя следы… или вздумай оставить мы коробку на уличном перекрестке и кто-нибудь вскрыл бы ее, тогда всю округу сотрясли бы крики: «Ах, какое чудовищное преступление!..» А так, незаметное для посторонних глаз, когда несешь его, прижав к сердцу, оно — вовсе и не преступление.
— Мария, — шепчу я, — может, подбросить вон той толстой торговке под прилавок? Или оставить на перекрестке, у аптеки, там сейчас ни души.
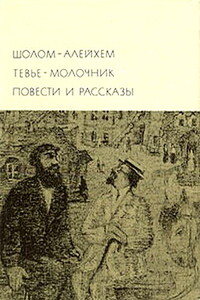
В книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859–1916) вошли повесть "Тевье-молочник" о том, как бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, а также повести и рассказы: "Ножик", "Часы", "Не везет!", "Рябчик", "Город маленьких людей", "Родительские радости", "Заколдованный портной", "Немец", "Скрипка", "Будь я Ротшильд…", "Гимназия", "Горшок" и другие.Вступительная статья В. Финка.Составление, редакция переводов и примечания М. Беленького.Иллюстрации А. Каплана.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.