Ночь на корабле - [9]
— Аминь! — сказал Гремин, смеючись. — Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.
— Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцового монетою.
— Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург, немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.
Они вышли в другую комнату.
— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин. — Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника, три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?
— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь, — вспыхнув, отвечал Стрелинский, — она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор… но далее: ты был влюблен в нее?
— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностию, меня ввели в дом ее мужа…
— Так она замужем?
— По несчастию, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. По между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял, — и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота.
— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas[4]; разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..
— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.
— С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное неуменье жить в свете!
— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду канула!
— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле — все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.
— Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер — плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти; мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, они привела у них в движение все иглы, языки и перья.
— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.
— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Валериан! я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок, — одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостию. Дай слово — и с богом.
— Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок другу и подруге, с опасностию потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтоб влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!
— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностию приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

«– Куда прикажете? – спросил мой Иван, приподняв левой рукою трехугольную шляпу, а правой завертывая ручку наемной кареты.– К генеральше S.! – сказал я рассеянно.– Пошел на Морскую! – крикнул он извозчику, хватски забегая к запяткам. Колеса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперед, мысли мои полетели к минувшему…».

«– Вот Эльбрус, – сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер – тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи…».

«Эпохою своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sonebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами…».

«Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрып колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана... Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вкруг огонька пить чай...».

В книге представлены произведения А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Даля, К. М. Станюковича, И. А. Бунина и других русских писателей XVIII — начала XX века, отразивших в художественной форме историю превращения России в морскую державу.

В настоящем сборнике представлены наиболее значительные произведения, написанные в жанре психологической и философской фантастики. Читатель может проследить за развитием этого направления в творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева, А. Чехова, а также в произведениях русских романтиков от А. Погорельского до В. Одоевского и А. Вельтмана.Новые возможности открыл перед фантастикой XX век. В повестях Ф. Сологуба, В. Брюсова, А. Куприна, А. Н. Толстого заметно усложнение жанра, изменение характера фантастического.Советская фантастика 20-х годов представлена в сборнике рассказами А.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
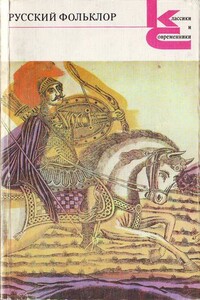
В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы русского устного народного творчества, публиковавшиеся в разное время в сборниках известных учёных-фольклористов XIX–XX вв.
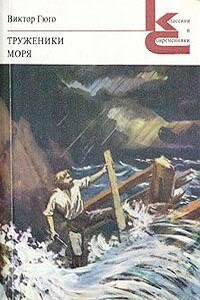
Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Роман советского писателя, лауреата Ленинской премии М.Г. Маркова повествует о жизни сибирских крестьян в дореволюционную эпоху, о классовом расслоении деревни, о событиях в период Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири.

Роман Кена Кизи (1935–2001) «Над кукушкиным гнездом» уже четыре десятилетия остается бестселлером. Только в США его тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Роман переведен на многие языки мира. Это просто чудесная книга, рассказанная глазами немого и безумного индейца, живущего, как и все остальные герои, в психиатрической больнице.Не менее знаменитым, чем книга, стал кинофильм, снятый Милошем Форманом, награжденный пятью Оскарами.