…Но еще ночь - [85]
оставалось лишь разрубить. Если что-либо было противопоказано становящемуся русскому сознанию, грозя ему нелепыми и непоправимыми обострениями, так это рецепция Ницше. Потому что нелепо и непоправимо играть в чужое безумие, еще не приобретя собственного ума. То, что русской философии была суждена до обидного короткая жизнь, лежало не в какой-то злой судьбе, посадившей её на «философский корабль» , а в ней самой, перепутавшей свой конец со своим началом и ставшей сходить с ума, даже толком не войдя еще в ум. Западным наставникам оставалось лишь качать головой при виде прямых трансфертов прочитанного в быт и повседневность: если Фихте, то я (читающий его студент) полагаю мир; если Шопенгауэр, то мир — это мое (читающего его студента) представление; если Ницше, то я (читающий его студент) сверхчеловек; если Маркс, то мне (читающему его студенту) впору менять студенческую тужурку на кожанку. «В философии», так это обобщил Тургенев, «мы искали всего, кроме чистого мышления»[206].
2.
Это признание не имеет себе равных. Наверное, такое возможно только в России. Искать в науке о мышлении всего, кроме самого мышления. Когда философия (не литературная, а философская) начала появляться в России, было ясно, что речь идет о пусть многоодаренных, пусть многообещающих, но эпигонах. Говоря с крупицей соли: были философы, но не было философии. Перестав списывать с чужих книг (богатый материал собран у Шпета в «Очерке развития русской философии»), стали писать сами, но соль была даже не в том, что и написанное самими представляло собой лишь более или менее своеобразное воспроизведение прочитанного чужого, а в почти патологической зацикленности на «последних вопросах» . Философ Степун вспоминал, как он, начав свои занятия философией у Виндельбанда в Гейдельберге, сразу стал расспрашивать профессора о его личном соучастии в вопросах о Боге, бессмертии и т. д., после чего Виндельбанд, «ласково улыбнувшись мне своею умнопроницательною улыбкою […] ответил, что […] у него, конечно, есть свой ответ, но это уже его „частная метафизика“ (Privatmetaphysik), его личная вера, не могущая быть предметом семинарских занятий».[207]Здесь и пролегает водораздел. Если философия в Европе стала профессиональной, то оттого именно, что она умела отличать эпистеме от доксы, знание от мнения, соответственно: объективное от частного и личного. Что её интересовало, так это прежде всего и после всего общее, а единичное лишь в той мере, в какой оно оказывалось подведенным под общее. Понятным образом философ, отказывающий частному и единичному в философских правах, не мог, будучи сам единичным, составить здесь исключения. Это понятийное безличие западной философии имело причиной (в другом ракурсе, следствием) безличие фактическое: простой, хотя и неосознанный факт, что, философствуя о первоосновах и первопричинах, философы находили их в идеях, богах, законах природы, не смея признаться себе в том, что речь шла o помысленных ими мыслях, которые они оттого и гипостазировали во внешнее, превращая их в космические внечеловеческие силы, что не решались опознать в них самих себя. Тут, по-видимому, и лежит ключ к тайне долголетия европейской философии: она не повелась на софистический искус человека как меры всех вещей , и сама придумала себе пугало антропоморфизма , от которого шарахалась как от чумы. Её интерес к человеку исчерпывался понятием человека и моментально исчезал, стоило ей только от понятия перейти к какой-нибудь конкретной и фактической личности. Понадобилось около двух с половиной тысяч лет, прежде чем она наткнулась, наконец, на очевидное : на факт, что её блистательная логика, объясняющая все вещи подведением их под понятиe, трещит по швам как раз при распространении этого правила на человека. Потому что обобщать человека в понятии можно не иначе, как потеряв самого человека, человечность которого только и проявляется с погашением общего в нем и манифестацией индивидуального. Философы, от Платона до Гегеля и дальше, разгадывали Бога, человека, бытиe, мир, всё , но теряли при этом самих себя, отказываясь понять очевидное, что разгадка не в тасовке понятий, а в них самих, в интимнейшем их индивидуальности. Чтобы дойти до возможности

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
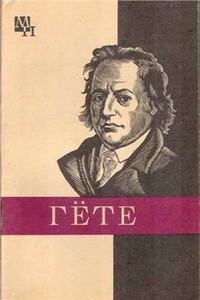
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.