Николай Александрович Невский - [8]
Но дело в том, что лингвистические склонности Николая Александровича, и в частности склонности к фонетике, тогда были буквально поддержаны самой атмосферой. А атмосфера создалась весьма интересная. Все востоковедение, простите, все языкознание у нас в университете возглавлял тот человек, которого мы сейчас считаем просто титаном, Бодуэн де Куртенэ. Именно он создал знаменитое учение о фонеме. И слово „фонема" в ту пору было еще свежо, ново, увлекательно и даже загадочно, особенно для профанов. Ну, приблизительно так, как сейчас, скажем, слово „алгоритм". Потом оно, конечно, превратилось в будничную прозу, в будничное понятие и понемножечку интерес к нему стал падать. Но тогда фонема была на своем подъеме. Кроме того,
гаодин из ближайших учеников и сотрудников Бодуэна Де Куртенэ, Лев Владимирович Щерба, тогда 'молодой приват-доцент, в университете, в большом здании, в одной из комнат нижнего этажа, вдруг открыл кабинет, который назывался кабинетом экспериментальной фонетики. Боже! Это совершеннейшее новшество, абсолютно непонятное, студенты смотрели на этот кабинет, как на кабинет Калигари, какие-то там вертящиеся штуки, что-то такое неведомое. Это было началом большой экспериментальной работы по фонетике под руководством Льва Владимировича Щербы. Эту школу прошли двое выдающихся наших китаистов — Евгений Дмитриевич Поливанов и, затем, Николай Александрович Невский.
Так вот вся эта общая атмосфера поддерживала склонности Николая Александровича к лингвистике, и в особенности к фонетике.
Не могу умолчать еще об одном, что также по-своему сказалось на деятельности Николая Александровича Невского. О его любви к поэзии. Я прекрасно помню, как он с торжеством вошел в мою комнату в общежитии и положил на стол маленькую книжечку. И сказал: „Вот, читайте!". Это был „Камень" Мандельштама. Оценить в то время Мандельштама могли очень немногие… И с большим удовольствием он всегда цитировал Ве-лемира Хлебникова. Вот два полюса. И они весьма своеобразно отразились в дальнейшей деятельности Николая Александровича».
Вступление Н. А. Невского в число студентов восточного факультета совпало с переменами в самом процессе организации преподавания дальневосточных языков, и прежде всего китайского. Именно в те годы с молодыми преподавателями Василием Михайловичем Алексеевым (будущим академиком) и Алексеем Ивановичем Ивановым в русскую китаистику влилась новая, живая струя. Судя по выступлению Н. И. Конрада, они стремились привить студентам навыки разговорной речи, научить их говорить по-китайски. Оба молодых преподавателя только что вернулись из Китая и, очевидно, действительно «были полны звуками китайского языка». Вместе с В. М. Алексеевым на факультет пришло и увлечение китайским искусством, литературой, в особенности классической поэзией.
Японский язык на факультете с 1909 по 1912 год дел Геннадий Иванович Доля, чиновник Министерства иностранных Дел, которому в утренние часы было разрешено преподавать в университете в качестве исполняющего обязанности лектора с окладом 1000 руб. в год. Титулярный советник Г. И. Доля, 1876 года рождения, выпускник Восточного института во Владивостоке, лучшего практического востоковедного института России тех лет, проявил себя хорошим переводчиком в годы русско-японской войны, за участие в которой был награжден орденом. Он был рекомендован в преподаватели факультета такими видными востоковедами, как Д. И. Иванов, В. Л. Котвич и П. С. Попов. Н. А. Невский учился японскому языку у Г. И. Доли два с лишним года, до той поры, пока в 1912 году Долю не назначили драгоманом Русского консульства в Мукдене. Заботами Доли как издателя было в 1910 году опубликовано учебное пособие Б. X. Чемберлена «Практическое введение в изучение японской письменности».
Вторым преподавателем японского языка был японец Куроно Есибуми3 (1860–1918) — уроженец Сидзуо-ка. По окончании Токийского университета в 1883 году он был направлен в Россию «с научною целью» и через Владивосток прибыл в Петербург. В 1888 году, когда декан Восточного факультета акад. В. П. Васильев обратился к властям с просьбой о создании на факультете Японской кафедры, Куроно Есибуми был рекомендован японским посланником в качестве преподавателя японского языка. Оставаясь японским подданным, Куроно Есибуми всю свою дальнейшую жизнь прожил под Гатчиной в деревне Загвоздка. Преподавая японский язык, он в то же время прослушал курс лекций на юридическом факультете университета. Нередко по просьбе некоторых ведомств, в том числе Военного министерства и Адмиралтейства, он переводил различные документы с японского на русский. Был он и переводчиком следственной комиссии по делу о сдаче Порт-Артура. Во время русско-японской войны Куроно Есибуми преподавательской деятельности не прерывал, правда, позднее он судился с одним журналистом, обвинившим его пуб-
3 Имя Куроно — Есибуми мы передаем в современной транскрипции, в тех случаях, когда оно встречается в документах той ЭПОХИ, — Иосибуми,
лично (через газету) в шпионаже. В 1918 году, когда начиналась гражданская война, он, оказавшись в тяжелом положении, решил переехать из Гатчины в г. Грязовец Вологодской губернии, но в дороге заболел и 25 ноября 1918 года скончался на станции Тосно. Там он и был похоронен за счет Петроградского университета.
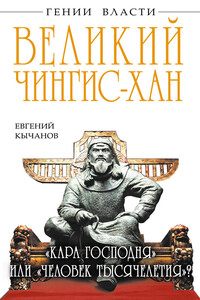
«Я – кара Господня! Если вы не совершали смертных грехов, Господь не пошлет вам кару в моем лице», «Не оставляй в живых того, кто сделал тебе добро, чтобы никогда не быть в долгу», «Высшее наслаждение для человека – победить врага, отобрать его богатства, сжимать в объятиях его жен и дочерей!» – эти слова приписывают великому Чингис-хану. Однако будь он обычным завоевателем, способным лишь на грабежи и убийства, разве удалось бы ему создать колоссальное государство, превосходившее по размерам Римскую империю вдвое, а державу Александра Македонского – в четыре раза?! Если бы Темучжин нес покоренным народам лишь кровь и смерть – разве просуществовала бы Монгольская империя многие столетия после его кончины (а последние чингизиды правили монголами до XX века)? Нет, Чингис-хан был не только беспощадным разрушителем, но и великим созидателем, не только гениальным военачальником, но и ГЕНИЕМ ВЛАСТИ, который установил на завоеванных территориях мир, законность и железный порядок, беспрецедентную свободу вероисповедания и безопасность торговли, создал лучшую почтовую и курьерскую службу, обеспечив неслыханную по тем временам скорость передвижения и передачи информации, превзойти которую смог лишь телеграф!Эта книга, основанная не только на «Сокровенном сказании» о Темучжине, но и других монгольских, китайских, мусульманских источниках, а также сведениях первых европейских путешественников в глубины Азии, восстанавливает подлинную биографию «ЧЕЛОВЕКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (как назвал Чингис-хана журнал «Тайме») в контексте его великой и кровавой эпохи.

Книга представляет собой научно-популярный очерк, освещающий историю и культуру Тибета с древних времен до наших дней. Привлечен большой фактический материал, обширная литература, в том числе новейшие тибетологические исследования. В очерк вплетен рассказ о трагической судьбе одного из тибетских далай-лам — VI Далай-ламы.
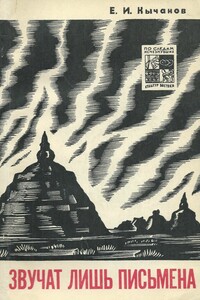
В очерке Е. И. Кычанова предпринята попытка рассказать широкому кругу читателей об исследователях погибшей тангутской культуры, о трудностях, стоявших на их пути, о том, что мы знаем сейчас о тангутах и их государстве.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.