Невозможность поэзии - [5]
Одним из открытий наших, — которое заслуживает названия открытия, конечно, только в личном плане, никак не в общем историко-литературном значении, — было то, что стихи можно, в сущности, писать как угодно, то есть как кому хочется. От школ, от метода, от «измов» колебания и изменения происходят лишь такие, которые напоминают рябь на поверхности реки: течение, ленивое или сильное, глубокое или мелкое, остается таким же, как было бы при полной тишине или сильной буре. Чутье — если оно есть — подсказывает метод верный, то есть соответствующий тому, что каждый поэт в отдельности хочет выразить. Но и только. Мучительная развязность почти всей футуристической поэзии, — как бы морально «подбоченившейся», — свидетельствует о каких-то подозрительных внутренних сдвигах — беда именно в этом! Против самого метода возражений основных, коренных, неустранимых нет.
Отсюда — рукой подать до открытия второго, неизмеримо более значительного, но оставшегося смутной, невысказанной догадкой, очевидно «чтоб можно было жить»: стихи нельзя писать никак… Настоящих стихов нет, все наши самые любимые стихи «приблизительны», и лучшее, что человеком написано, прельщает лишь лунными отсветами неизвестно где затерявшегося солнца.
Догадка, впрочем, бывала иногда высказана в очень осторожной форме, хотя и с надеждой, что отклик должен бы найтись. Как водится, в ответ раздавалось главным образом хихиканье: «сноб», «выскочка», «не знает, что еще выдумать», «Пушкин, видите ли, для него плох», «Пушкин приблизителен» — и так далее.
О Пушкине, кстати, — и вопреки досужим упрекам со стороны, — никогда, вероятно, так много не думали, как в тридцатых годах двадцатого века в Париже. Но не случайно в противовес ему было выдвинуто имя Лермонтова, не то чтобы с большим литературным пиететом или восхищением, нет, но с большей кровной заинтересованностью, с большим трепетом, если воспользоваться этим неплохим, но испорченным словом… Пушкин и Лермонтов — вечная русская тема, с гимназической скамьи до гроба. В последние месяцы и недели своей жизни к теме этой все возвращался Бунин и утверждал, что Лермонтов в зрелости «забил бы» Пушкина. У меня до сих пор звучит в ушах фраза, которую Бунин настойчиво повторял: «Он забил… забил бы его». Не думаю, однако, чтобы это было верно. В прозе, пожалуй: поскольку речь о прозе, можно даже обойтись без сослагательного наклонения и признать, что лермонтовская проза богаче и гибче пушкинской, и притом «благоуханнее», как признал это еще Гоголь. Но не в стихах. Здесь, в своей сфере, Пушкин, конечно, — художник более совершенный, и даже последние, поздние, почти зрелые лермонтовские стихи — хотя бы та «Чинара», которая приводила в восхищение Бунина, — неизменно уступают стихам пушкинским в точности, в пластичности, в непринужденности, в той прохладной царственной бледности, которая роднит Пушкина с греками. А так называемый «кованый» стих Лермонтова — большей частью сплошная риторика,.. Нет, в области приближения к совершенству Лермонтов от Пушкина отстает и едва ли его когда-нибудь нагнал бы. Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет. У Лермонтова есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать. Он писал стихи хуже Пушкина, но при меньших удачах его стихи ближе к тому, чтобы действительно стать отражением «пламени и света». Это трудно объяснить, это невозможно убедительно доказать, но общее впечатление такое, будто в лермонтовской поэзии незримо присутствует вечность, а черное, с отливами глубокой, бездонной синевы небо, «торжественное и чудное», служит ей фоном.
Оттого о Лермонтове как-то по-особому и вспомнили в годы, о которых я говорю. Не все в нем вспомнили, нет, и не всего, а те его строки, в которых разбег и стремление слишком много несут в себе смысла, чтобы не оборваться в бессмыслицу или в риторическую трясину: например, удивительное, непорочно-чистое, «как поцелуй ребенка», начало «Паруса» с грубо размалеванным его концом или «Из-под таинственной холодной полумаски…» — строчка, из которой вышел Блок, — с совершенно невозможными «глазками» тут же, — и другое.
Был, кроме того, в поэзии Лермонтова трагически-дружественный тон, — то же, как у Блока, но мужественнее и тверже, чем у Блока: на него отклик возникает сам собой. Оправдания поэтической катастрофы, которая не катастрофой быть не соглашалась, искать больше было негде. А как бы мы сами себя ни уверяли в противоположном, оправдание было нам нужно, — и во всяком случае нужен был в классическом прошлом голос, который больше других казался обращенным к нашему настоящему.
Мелькает мысль: да, прекрасно, Лермонтов, а к нему в придачу какие-то вагнеровские, похожие на сон воспоминания, какие-то волшебные цели, безнадежно-изнурительные порывы с величественной финальной катастрофой, — а что на деле? Стихи как стихи: то хорошие, то слабоватые — о любви, о природе, о скуке, об одиночестве, о смерти, об ангелах, о парижском городском пейзаже. Где в них отражение этих метафизических надежд и падений?
Возражение я делаю самому себе — главным образом потому, что не сомневаюсь: было бы оно сделано и извне. В этом возражении есть доля правды. Но подумаем: могло ли все быть по-другому? Были возможны изменения и колебания лишь в литературных, материальных качествах здешней поэзии, в размерах дарований и в уровне мастерства. Но невозможна была ее общая «однотонность», ее непрерывная, неизменная обращенность к единой теме, ее рыцарское служение лишь одной Прекрасной Даме без всякого поглядывания по сторонам. Все мы хорошо знаем, как слаб и рассеян человек. Даже храня где-то в глубине памяти представление о «самом важном», — как любила говорить Гиппиус, тянет иногда слабости своей поддаться и сочинить стихи, «стишки» без всякой связи с подобными представлениями, именно о любви или о цветах. Иначе можно ли было бы жить? Подвижников и героев на свете мало, а поэт бывает «меж детей ничтожных мира всех ничтожней» порой даже и тогда, когда Аполлон его к очередной, более или менее священной жертве требует. Неужели у всех нас — и вовсе не в поэзии только, а во всем нашем существовании — слова и дела так строго согласованы, что пришлось бы удивляться перебоям или случайному отступничеству? Неужели жизнь проходит по стройному, твердо установленному плану?

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья – парижских «Последних новостях» – с 1928 по 1940 год.

Из источников эпистолярного характера следует отметить переписку 1955–1958 гг. между Г. Ивановым и И. Одоевцевой с Г. Адамовичем. Как вышло так, что теснейшая дружба, насчитывающая двадцать пять лет, сменилась пятнадцатилетней враждой? Что было настоящей причиной? Обоюдная зависть, — у одного к творческим успехам, у другого — к житейским? Об этом можно только догадываться, судя по второстепенным признакам: по намекам, отдельным интонациям писем. Или все-таки действительно главной причиной стало внезапное несходство политических убеждений?..Примирение Г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
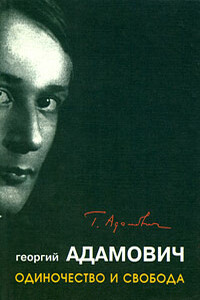
Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.СодержаниеОдиночество и свобода ЭссеМережковский ЭссеШмелев ЭссеБунин ЭссеЕще о Бунине:По поводу "Воспоминаний" ЭссеПо поводу "Темных аллей" Эссе"Освобождение Толстого" ЭссеАлданов ЭссеЗинаида Гиппиус ЭссеРемизов ЭссеБорис Зайцев ЭссеВладимир Набоков ЭссеТэффи ЭссеКуприн ЭссеВячеслав Иванов и Лев Шестов ЭссеТрое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)Поплавский ЭссеАнатолий Штейгер ЭссеЮрий Фельзен ЭссеСомнения и надежды Эссе.
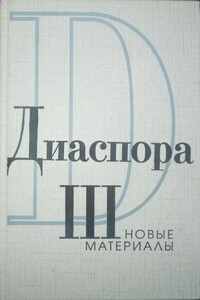
Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции.Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А. Богомолова.Из книги Диаспора: Новые материалы.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.
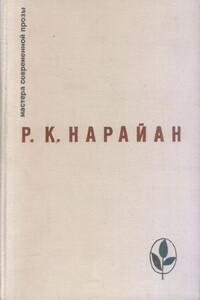
Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.