Невольные каменщики. Белая рабыня - [5]
Вот мы поднимаем стаканы с портвейном. Иветта бежит в коридор к большому, черному, военного облика аппарату, журчит приятная беседа, мое внимание покидает и Тарасика, и портвейн, и пытается заглянуть за поворот коридора. Вернувшись, Иветта сообщает, что беседовала с Дашей и что та передает мне (то есть мне) привет. В другой раз я застаю моего кудрявочубого друга за тем, что он ласкает какую-нибудь книжную диковину, и когда я спрашиваю с завистью: откуда? — выясняется, что заезжала тут Дарья Игнатовна. У ее папаши, у этого Игната Севериновича, этого добра рыбы не клюют.
С какого-то момента я отметил про себя: помимо дружеских и собутыльнических чувств, на Малую Бронную меня влечет еще что-то. Надежда глотнуть воздуха, в котором остались следы ее духов. (Прекрасно вижу невероятную пошлость этого наворота, но что поделать, если оригинальные слова не могут выразить того, что я хочу сказать.)
Кроме того, мне перестало казаться, что между нами преграда из разряда непреодолимых, теперь мне казалось, что между нами лабиринт, нечто в принципе проницаемое. Болезненное ощущение, что мы пребываем в разных этажах вещественного мира, вскипевшее во мне в момент первой встречи, эволюционизировало в направлении романтического смягчения. Зря эволюционизировало, зря. Ибо, будь я по-прежнему низкопробно, плебейски, отвратительно предубежден против этой зубастой дамочки, я не затрепетал бы своими продажными фибрами в тот момент, когда простодушная Иветточка сообщила, что они давеча беседовали с Дашей и что эта микроматрона, например, не видит ничего удивительного в том, чтобы ты (я, я, я,) взял и позвонил ей. Номер телефона прилагается. Я не нашел ничего лучшего, чем заглянуть с искусственным подозрением в придвинутый ко мне прямоугольничек бумажки. Внутри у меня колыхалось несколько слоев удовлетворения. Самый мощный — мужское, под ним тонкий и ядовитый слой классового, если так можно сказать, удовлетворения, был еще какой-то, то ли детский, то ли щенячий (в смысле — животный). Вспоминаю себя с недоумением.
— Зачем звонить-то? — спросил я у Иветты, ласково при этом думая про ее подругу: ах ты гадина!
— Не знаю, — сказала простодушная. — Она там, кажется, какие-то твои стихи читала.
— Ах, стихи! — во мне одновременно вздрогнул призрак непонятного разочарования и сыто зевнул зверь авторского тщеславия.
Я протянул руку к листку бумаги, по дороге понимая, что это не Иветтин почерк, что это собственноручно… Какие откровенные цифры, это же кошачий вопль, а не номер.
Позвонить человеку непросто. Даже если уверен, что он ждет твоего звонка. Мне вполне хватало для повседневного удовлетворения тех микроскопических процентов с капитала, которым являлся телефон, собственноручно начертанный Дарьей Игнатовной. Я с удивлением рантьировал несколько дней, пока не понял, что слишком долго уворачиваюсь от высланной за мною шлюпки, ярко освещенная громада лайнера начинает застилаться дымкой упущенного времени. Интересно, что эта громоздкая метафора пришла мне в голову абсолютно внезапно и, конечно же, посреди какого-то очередного загула. Я бросился к ближайшему телефону-автомату. Не так легко было выбрать подходящий. Возле наших, общежитских, дежурили понимающе улыбающиеся приятели, пришлось выбегать на улицу и располагаться в заледеневшем металлическом ящике в углу грязного двора. Триста граммов водки серьезно смягчили окружающий мороз и выпрямили внутреннюю неуверенность. Номер набрался и ответил с угодливой легкостью. Мне были рады. Я понял, что значит пользоваться режимом наибольшего благоприятствования. Говорила в основном она. Не возникло ни единой паузы или намека на неловкость. Даша говорила так, что я спросил у себя в приятном ошеломлении: да сколько лет мы с нею знакомы? Она говорила мягко, связно и о предмете, который меня не мог не интересовать — о моих сочинениях. Сначала я слегка напрягся, но скоро понял, что ее речь представляет собой поток самого откровенного бальзама на многочисленные незаживающие раны моей последней публикации. Мясницкие следы, оставленные редактурой на нежном новорожденном тексте, не портили прекрасной филологине удовольствия от чтения. Она быстро и деликатно добралась до основной идеи цикла стихотворений и на мгновение замерла в преддверии окончательной оценки.
— И что? — прошептал в обмороженной будке замирающий от волнения идиот.
— Это необыкновенно, это блистательно, — вздохнула Даша томно и восторженно.
Потом она перешла к деталям, по опыту, видимо, зная, что изымать человека из счастья надо постепенно. Особенно ее восхитило то, как я тонко вплел в образный ряд, «обыграл» необычные, свитые из золотой проволоки очки главного героя. Подвергнутые особому вниманию, наливаясь смыслом в зеркальной системе нашего разговора, они отложились на бархатном дне смутно-волнующего впечатления, которое осталось у меня от этой литературной консультации. И потом я часто замечал, как они посверкивают золотыми глазницами, наблюдая за развитием событий.
Да, забыл отметить главное — мы договорились встретиться. Созвониться и встретиться.
Помимо СПИДа, в те годы у нас входило в моду видео. Говорят, в конце пятидесятых собирались, чтобы смотреть телевизор. В середине восьмидесятых считалось незаурядным подарком сводить на «видак». На первый взгляд, схожие явления. Но если всмотреться, все как раз наоборот. В телеископаемые времена жизнь не была столь отравлена понятием престижа и не успела стать частной в современном понимании. Каждый появляющийся в коммуналке телеприемник соседи воспринимали как, скажем, родник, или ручеек, в том смысле, что ощущали свое несомненное право тоже черпать из него. В то же время хозяевам и в голову не приходило использовать редкий бытовой прибор в качестве наживки для ловли нужных людей. И попробовали бы они пользоваться своим ящиком только в кругу семьи. Такую семью ждала бы немедленная гражданская смерть. Другое — видео. Вам бы никогда не пришло в голову постучать к соседу по площадке с заявлением, что пора, мол, «врубать», что ты с супругой готов поразвлечься каким-нибудь новым боевичком. Если ты вел своего приятеля в гости, где была «техника», то ты знал, что приятель этот чувствует себя обязанным.
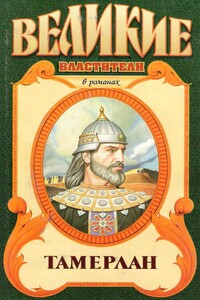
Два романа о великом завоевателе Средней Азии Тимуре — Тамерлане, составившие эту книгу, посвящены двум разным периодам жизни этого легендарного правителя чагатаев. М. Деревьев воссоздаёт образ молодого Тимура, когда тот изо всех сил боролся за власть в землях Мавераннахра. Роман А. Сегеня охватывает последние месяцы жизни Тамерлана, когда больной и дряхлый завоеватель решается на свой заключительный великий поход — на Китай, во время которого его и постигает смерть.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
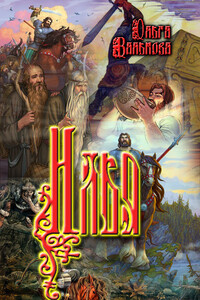
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
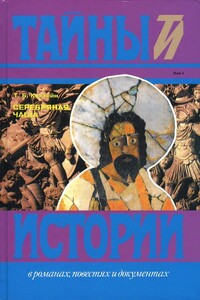
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
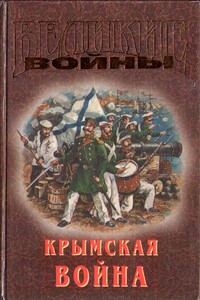
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Роман писательницы Натальи Калининой — о любви, о женских судьбах, о времени, в котором происходят удивительные, романтические встречи и расставания, и не где-то в экзотической стране, а рядом с нами. Действие происходит в 40-е—60-е годы в довоенной Польше и в Москве, в большом областном городе и в маленьком доме над рекой…
