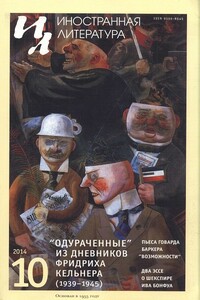Невероятное (избранные эссе) - [3]
Эта стихия проглядывает в скульптурном орнаменте. Голый камень, вероятно, внушал бы страх; бесформенные, разбитые, изуродованные глыбы подтверждали бы всевластие небытия. Но саркофаги Равенны, пусть и зияющие пустотой, сохранили орнамент, и это сообщает им умиротворенность.
В орнаменте, по крайней мере, в той вязи перевитий и нахлестов, розеток и лоз, какой покрыты могильные памятники Равенны, есть явная сила, не сразу объяснимая. Сила, которая умиротворяет, как я уже сказал, но в то же время кружит голову, увлекая и приковывая взгляд к выемам или выступам резьбы, — потому что этот мрамор живет, живет тончайшей жизнью, трепещущей на его поверхности. Соединяя в себе чистоту прозрачной воды и текучесть прекрасного облачения, торжественную неподвижность и тайную дрожь, он непостижимым образом унимает самый тягостный страх.
Я набросал краткий план теории орнамента. По-том отложил свой набросок, начал другой. Во всех этих ясных формах есть нечто, из-за чего рассыпаются любые логические построения.
Я сравнивал орнамент с понятием. Понятие не отрицало бы смерть, если бы та, как и многое другое, не ускользала от понятийного абстрагирования. Свою завершенность понятие находит в «последовательной» мысли. Система венчает дамбу, сдерживающую напор смерти.
Орнамент, решил я, тоже устремлен к всеобщему. Мраморная птица относится к своему образцу так же, как относится к предмету понятие: это абстракция, сохраняющая в себе лишь сущность предмета, навеки разлученная с его некогда живым присутствием. Посмотрите на все эти сцены, украшающие боковые стенки саркофагов, — на Даниила, на Лазаря, на Иону. Словно какой-то ветер сорвал и несет их лица, ставшие лишь знаками в мире других знаков. Что и говорить, орнамент защищает Лазаря от страданий, которые причиняло ему бренное тело… Сеть с широкими ячейками, легко пропускающими смерть.
Орнамент — это замкнутый мир. Если творческий акт должен выносить вовне то, что живет внутри художника, орнамент, продолжил я свои рассуждения, не имеет ничего общего с творчеством. Игра — вот вся его забота. То же можно сказать о понятии, чья бесцельная, ни к чему не ведущая игра есть система, которую строит мысль. И у орнамента своя система — гармония его неисчислимых форм, его пальмовых ветвей, его виноградных лоз…
Понятие хочет создать такую истину, которая не включала бы в себя смерть. Добиться, чтобы смерть наконец перестала быть истинной. Точно так же и орнамент, заключил я, хочет выстроить для нас дом, в котором нет смерти, и добиться, чтобы смерти больше не было здесь.
Но эти мои рассуждения не принимали в расчет камень — неотъемлемую составную часть орнамента, которая удерживает его странные универсалии в пределах чувственного мира.
И еще: та радость, которую внушают эти образы, слишком горячечна, слишком чиста. Логическая последовательность — сомнительное утешение, доставляемое неполным, половинчатым забвением смерти, — есть не что иное, как попытка выжать эту почти божественную радость из самых унылых материй. Если орнамент строит для нас дом, иначе говоря — что-то в высшей степени реальное, можно ли считать его абстракцией?
Есть один скульптурный мотив, довольно широко распространенный, и, видимо, самый прекрасный из всех, какие можно видеть в Равенне, во всяком случае, наиболее нагруженный смыслом. Это изображение двух павлинов. Стоящие друг против друга, олицетворяющие какую-то гиперболичную мудрость и простоту, они пьют из одной чаши или клюют одну лозу. В духовном узоре, продолжающем и завершающем мраморный узор, эти павлины означают смерть и бессмертие.
Я никогда не встречал более животворного источника. Мы чувствуем бездонность этой лозы, из которой наше сердце нераздельно черпает и прославление жизни, и знание смерти. Такова природа камня. Склоняясь к нему, я всякий раз убеждаюсь, что его глубина неисследим а, и эта бездна наполненности, этот мрак, скрывающий в себе вечный свет, остается для меня непревзойденным образцом реальности. Гордость, лежащая в основании сущего, утренняя заря, освещающая чувственный мир! Все, что высечено в камне, существует — в возвышенном и самом сильном смысле этого слова. Никакой орнамент невозможен вне камня. И пусть форма в том мире, который построен орнаментом, отстраняется от земной жизни, устремляясь к неведомым небесам, — камень ставит границы для ее безучастного повествования, он не позволяет архетипам покинуть наш мир.
Если нет ничего менее реального, чем понятие, то нет и ничего более реального, чем этот союз формы и камня, прообраза и телесности: нет ничего реальнее мира Идей, погруженного в вещество.
Орнамент вещь особого рода: ясный, как проточная вода, он сочетает в себе всеобщее и единичное. Это Идеи, ставшие присутствием. И радость, которую он внушает, дала мне почувствовать вкус истинной вечности.
Я вспоминаю саркофаг, виденный мной недавно в одном лейденском музее. Это был музей местного университета, помещавшийся, как все старинные научные заведения, в тесных, полутемных комнатах. Да и за окнами в тот день было черно. Но внезапно все вокруг озарилось светом.

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…основная идея и цель комедии г. Загоскина нам очень нравится. Честь и слава художнику, который делает такое благородное употребление из своих дарований; честь и слава художнику, который употребляет свой высокий, данный ему богом талант на осмеяние невежества и эгоизма, на исправление общества! Но еще более ему чести и славы, если эта благородная цель гармонирует с направлением его таланта, если она дружна с его вдохновением, если она есть следствие его привычных дум… только под этим условием невежество устыдится своего изображения; в противном же случае оно не узнает себя в нем и будет над ним же издеваться!..».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».