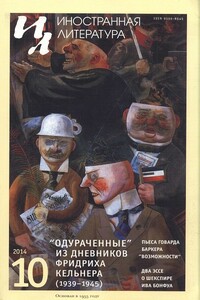Невероятное (избранные эссе) - [16]
Но между тем бессилием, о котором я говорил выше, и этой счастливой возможностью, между перспективой-мерой и перспективой-числом, между, если можно так сказать, аристотелевской природой перспективы и ее пифагорейской устремленностью все же существует принципиальное различие. Первая неразрывно связана с измерительным инструментом, вторая требует личной убежденности, воли и выбора. Чтобы преодолевать отчужденность, присущую числу, чтобы превозмогать наваждение видимости, чтобы уходить от миражей наружного облика, нужно принимать решения метафизического порядка. И этого мало: нужна еще сила духа, чтобы не отступать от принятого решения. Ведь на избранном пути не было недостатка в срывах, приступах отчаяния, оплошностях. Этот путь стал тревожным метанием между двумя полюсами нового искусства — но тут, впрочем, и крылась вторая из тех счастливых возможностей, которые я упомянул выше, возможность субъективного подхода. Судя по всему, дорогу субъективному мышлению в живописи проложило открытие Брунеллески>{31}, почти механическое по своей сути. Ведь благодаря этому открытию приемы, с помощью которых вещи изображались прежде, сменяются универсальным и не совсем ясным по своему истинному назначению инструментом, — и в дальнейшем художники уже имеют дело с этим инструментом, причем всякий применяет его сообразно со своим дарованием и так, что характер этого применения выдает глубоко личные особенности автора. И бытие возвращается в их картины: его можно обнаружить, вглядываясь в индивидуальную технику живописца. Бытие в его экзистенциальном качестве, тревожное, смятенное, докоперниковское бытие, пульсирующее под оболочкой гуманистической уверенности, — оно повергает в растерянность Леонардо, в нем черпают радость маньеристы, в нем вновь находит себя Греко… Как нетрудно убедиться, именно с этих пор художники начинают противопоставлять себя друг другу и уяснять друг через друга свою собственную манеру, переносить диалектику стилей в более высокую духовную плоскость. Одни видят в точном расчете не более чем отражение собственной мудрости. Других тоже увлекает загадка мгновения, но по совсем иной причине: они не в силах отделить себя от своего бурного времени. Не тот ли это конфликт между божественным сиянием и земной жизнью, который пытался разрешить уже Джотто? Но прежде чем обсуждать этот конфликт, заметим, что он не будет продолжителен. Он имел смысл только в XV веке, до коперниковского переворота, когда человек еще мог думать, что находится в центре космической структуры. Очень скоро эта уверенность исчезнет, и время предстанет как бы во всей своей наготе. Именно поэтому перспектива будет столь необратимо перерождаться в чистый иллюзионизм, и, вместе с тем, преподав свой двусмысленный урок, обнаружит, что художники ее отвергли.
Я могу сейчас очертить развитие живописи Кватроченто лишь самым общим образом.
Первое поколение кватрочентистов дало двух художников, которые при всей свойственной им непоследовательности в применении перспективы смогли увидеть, как вырисовываются два названных мною направления, и прониклись любовью к предоставляемым ею возможностям: в одном случае — раскрывать сияние сущего, в другом — исследовать земной мрак. Это были Мазаччо и Паоло Уччелло. Той перспективы, какая появляется в работах Мазаччо, уже достаточно, чтобы опустить горизонт, размыть декоративизм джоттовской традиции, создать пространство, способное вместить человеческие действия. Но все же перспектива у Мазаччо еще не настолько четка, чтобы обрести понятийный характер, чтобы втянуть эти действия в ловушку мгновения. Кажется, этот художник мог бы изображать длящееся время вполне правдиво. И тем не менее все его наблюдения над действиями людей служат только тому, чтобы вынести их во вневременность. Не то чтобы его персонажи вообще бездействовали — но Мазаччо изображает их так, как если бы воля и жест человека, его прошлое и его будущее были абсолютно тождественными, и эти сферические образы самих себя, в которых они предстают на его полотнах, эта глубокая самоуспокоенность, унаследованная от старого иератического мышления, это, если можно так сказать, «сохранение массы» приобщают переживаемое ими время — через переполняющее их чувство ответственности, через их героический и серьезный вид, — к вневременности закона, к некоей застывшей идее величия. Мазаччо дает наглядное выражение тезису героического гуманизма. Усилиями этого художника все представления о торжественности, какие только могла ему внушить Флоренция (будь то статуи, украшающие Ор Сан Микеле, или архитектура Брунеллески), переносятся в более умозрительное, сверхчувственное пространство живописи. По-видимому, именно флорентийской архитектуре, с ее выраженной структурностью, логичностью, единообразием, с ее предчувствием мощной метафоризующей функции центрального плана, Мазаччо обязан величавостью своих полотен. Архитектура, воплощающая форму в камне, умопостигаемое в чувственном, пронесшая сквозь итальянское средневековье скрытое сознание достоинства земной жизни, и в дальнейшем, на протяжении всего раннего Возрождения, будет находить понимание и отклик у живописцев. Но можно ли утверждать, что Мазаччо действительно следует ее урокам? Если он и выражает своими средствами дух архитектуры, то ее напряженностью он себя не стесняет. Дело архитектуры — преодолевать косность камня. Нельзя утвердить вневременное, если не сталкиваешься с сопротивлением времени. Мазаччо же не так строг в своем перспективизме, чтобы безоглядно втянуться в конфликт между пространством и длительностью. Его авторитарная живопись, сотканная из подсказок и намеков, выдвигает вневременность в качестве некоторой программы, идеала (на ум приходит Рембо и его «Письмо ясновидца»

Г. Брох выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входит самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
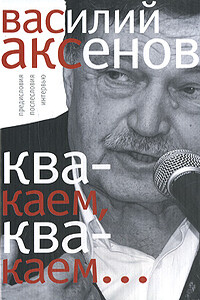
«Молодость моего поколения совпала с оттепелью, нам повезло. Мы ощущали поэтическую лихорадку, массу вдохновения, движение, ренессанс, А сейчас ничего такого, как ни странно, я не наблюдаю. Нынешнее поколение само себя сует носом в дерьмо. В начале 50-х мы говорили друг другу: «Старик — ты гений!». А сейчас они, наоборот, копают друг под друга. Однако фаза чернухи оказалась не волнующим этапом. Этот период уже закончился, а другой так и не пришел».