Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Том 3 - [19]
Пастернак нимало не подавляя своей творческой индивидуальности, возродил классические традиции русского стихотворного перевода. Один из основных своих принципов Пастернак сформулировал как «намеренную свободу, без которой не бывает приближения к большим вещам».[18] Но ведь под этим подписались бы обеими руками лучшие наши поэты-переводчики XIX века! Именно на этом пути их неизменно ожидала удача.
Заботясь об интересах читателя, Пастернак тем самым заботится и об интересах переводимого автора. Однажды в разговоре со мной он обронил такое признание:
– Я в своих переводах читателя с горы на санках прокатил, а другие переводчики пусть выпердывают свои буквальные точности.
И в самом деле: переводы Пастернака свободны от невнятицы, в них нет ни ребусов, ни загадочных картинок, неизбежно возникающих у переводчиков-буквалистов. И это тоже роднит его с лучшими нашими переводчиками XIX века.
Истинные поэты не могут не ощущать плодотворящей силы народного языка. Для них это живоносный и целебный источник. Чтобы произведение словесного искусства в переводе не превратилось в мумию, переводчик не только волен – он должен пользоваться всеми изобразительными средствами, которыми располагает его родной язык, в частности и в особенности – язык народный. Так именно и поступал Борис Пастернак. Словарь его переводов не менее многослоен, чем язык его поэзии оригинальной. И опять-таки это роднит Пастернака, это ставит его в один ряд с самыми сильными из его предшественников.
Вспомним, на каком фоне появилась его книга избранных переводов[19] и первый его перевод из Шекспира – «Гамлет» (1941). В ту пору имели хождение «шекспиременты» как на сцене, так и в переводе. Толстенный том избранных произведений Шекспира, который в 1937 году выпустило издательство «Academia» напоминает тяжелую гробовую плиту, которой переводчики словно пытались изо всех сил придавить вечно живого Шекспира. Чего стоит, например, такой обмен репликами:
Марцелл Эй! Бернардо!
Бернардо Что, Горацио, с тобой?
Горацио Кусок его!
С Призраком вышеупомянутый «кусок Горацио» ведет беседу в таком духе:
Офелия в этом издании изъясняется таким манером:
Злополучные Марцелл и Горацио говорят столь же нечленораздельно, когда от них требуют клятвы:
Горацио Ей же, не стану, принц.
Марцелл И я не стану, ей же.
Полоний сообщает о Гамлете, что тот «впал… в недоеданье… в бессоницу…»
Родриго, умирая, восклицает:
Отелло, собираясь убить Дездемону, бормочет нечто совершенно неудобопонятное не только для зрителя, но и для читателя, который имеет возможность несколько раз перечитать и вдуматься в неясные строки:
Причина есть, причина есть, душа! Вам, звезды чистые, не назову, Но есть причина.
При чтении подобных переводов у читателя рождалось законное недоумение: если Шекспир так косноязычен, так плох в оригинале, то почему, собственно, ему такую славу поют? Уж не напускают ли здесь шекспирологи туману?
Русские переводчики Шекспира, подвизавшиеся в прошлом веке, допускали смысловые ошибки (не по небрежению, а оттого что Шекспир тогда еще не был с такой кропотливой дотошностью изучен, как в наши дни), далеко не везде предоставляли русскому читателю возможность ощутить поэтическую мощь Шекспира (хотя и у Кронеберга и у Вейнберга были взлеты и озарения), но все же они имеют то бесспорное и неотъемлемое преимущество перед авторами цитированных мною опусов, что они не насиловали так грубо русский стих и русский язык, что их переводы были по крайности ясны и понятны.
Пастернак доказал русскому читателю, во-первых, что Шекспир – великий поэт, а во-вторых, что Шекспир – великий драматург, что он писал для сцены, так же, как впоследствии он доказал, что Гете не только мыслитель, о чем мы могли судить и по переводу Холодновского, и по переводу Брюсова, но и поэт.
Мало кто из русских поэтов-переводчиков умеет вживаться в искусство переводимого автора так, как вживается он. Если только поэт в целом близок ему по мироощущению, он с художественной точностью воссоздает стихотворения, написанные и не в его, Пастернака, манере. Краски у Пастернака – оригинального поэта ярки. Но когда читаешь в его переводе «Синий цвет» Бараташвили, кажется, что оно написано не словами, а мягкой небесной синевой.
Поэзия Пастернака славится картинностью изображения, достигающейся точным в своей выразительности отбором деталей. И вот это свое искусство он ставит на службу тому поэту, которого он воссоздает на русском языке. Перед нами пейзаж Гете во всей прелести своей будничной характерности:
(Монолог Фауста)
Поэзия Пастернака любит земной простор, любит окутывать даже отвлеченные предметы земным теплом, любит домашний быт, домашний уют во всех его мелочах, которые у многих его предшественников находились в небрежении. И вот если Пастернак обнаружит такие детали у переводимого автора, он ими не погнушается, он все их бережно соберет и покажет читателю:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
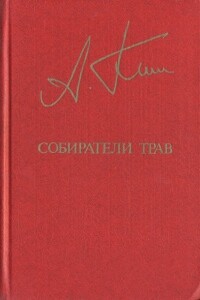
Анатолия Кима трудно цитировать. Трудно хотя бы потому, что он сам провоцирует на определенные цитаты, концентрируя в них концепцию мира. Трудно уйти от этих ловушек. А представленная отдельными цитатами, его проза иной раз может произвести впечатление ложной многозначительности, перенасыщенности патетикой.Патетический тон его повествования крепко связан с условностью действия, с яростным и радостным восприятием человеческого бытия как вечно живого мифа. Сотворенный им собственный неповторимый мир уже не может существовать вне высокого пафоса слов.Потому что его проза — призыв к единству людей, связанных вместе самим существованием человечества.
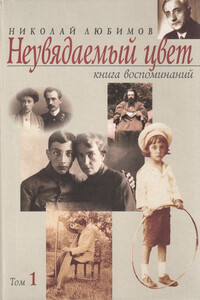
В книгу вошли воспоминания старейшего русского переводчика Николая Любимова (1912–1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей. Эти воспоминания – о детстве и ранней юности, проведенных в уездном городке Калужской губернии. Мир дореволюционной российской провинции, ее культура, ее люди – учителя, духовенство, крестьяне – описываются автором с любовью и горячей признательностью, живыми и точными художественными штрихами.Вторая часть воспоминаний – о Москве конца 20-х–начала 30-х годов, о встречах с великими актерами В.
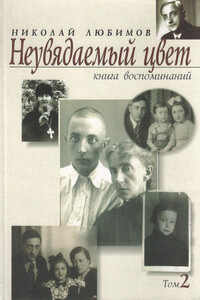
Второй том воспоминаний Николая Любимова (1912-1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя драматические события двух десятилетий (1933-1953). Арест, тюрьма, ссылка в Архангельск, возвращение в Москву, война, арест матери, ее освобождение, начало творческой биографии Николая Любимова – переводчика – таковы главные хронологические вехи второго тома воспоминаний. А внутри книги – тюремный быт, биографии людей известных и безвестных, детали общественно-политической и литературной жизни 30-40-х годов, раздумья о судьбе России.
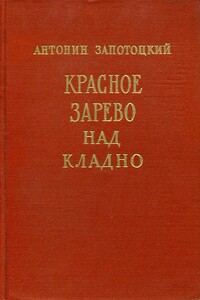
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
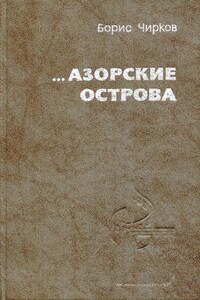
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
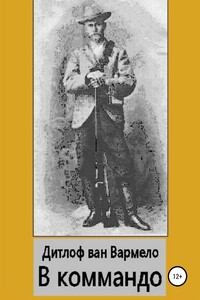
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.