Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2 - [30]
пробасил он вполголоса, с провидчески-мрачным вызовом, производившим, впрочем, трагикомическое впечатление по контрасту с его почти лилипутьей фигуркой, и добавил: – В двадцать седьмом году, после ноябрьской демонстрации, когда вся Бутырская тюрьма была забита троцкистами, здесь стены дрожали от «Варшавянки»!
Это была для меня новость. Жалобы Троцкого и Зиновьева на производившиеся в 27-м году аресты их единомышленников тогда не попадались мне на глаза. Я знал, что арестовывали и арестовывают монархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, беспартийных интеллигентов, крестьян, священнослужителей, «бывших людей». Но что арестовывали и арестовывают товарищей по партии – это не укладывалось у меня в голове. И уж потом, когда я обжился в камере и ко мне вернулась способность думать не только о своем положении, моя мысль постоянно возвращалась к первому разговору с Сибиряковым. За что же арестовывали и арестовывают троцкистов? Какие у них средства борьбы? Сходки в лесу, письма, листовки, демонстрации. За что же тогда клеймить жандармов, разгонявших маевки и демонстрации, сажавших за участие в них и за распространение листовок? Почему школьники обязаны проливать слезы над участью горьковской «Матери»? В листовках революционеры призывали свергнуть самодержавие. А троцкисты призывают свергнуть не Советскую власть и Коммунистическую партию, а только диктатуру Сталина, свергнуть мирным путем, а не силой оружия. И почему никто не пикнул в защиту товарищей, не пикнул никто из самых «гуманных» большевиков – ни Рыков, ни Бухарин, ни Семашко, ни Луначарский?.. Только теперь я вычитал в старых газетах, что и Рыков, и Бухарин, и Томский одобряли аресты своих бывших сподвижников.
Вечером, после ужина, бессонная ночь и неприкаянность, – кроме Сибирякова, я ни с кем не познакомился в камере, я был на положении новичка, которому негде приткнуться, – довели меня до того, что я опять присел у кого-то в ногах и, уронив голову на руки, в первый и последний раз за всю мою тюремную жизнь заплакал. Вдруг кто-то погладил меня по голове. Я встрепенулся. Подле меня стоял Сибиряков. Он заметил мои вздрагивающие плечи и подошел ко мне.
– Коля, не плачьте! – Его бас прозвучал неожиданно-мягко. – Все у вас будет хорошо. И маму свою вы увидите непременно! Вот помяните мое слово!
И тут я будто переродился. Я поверил Сибирякову беспрекословно. Я улыбнулся сквозь слезы и крепко сжал его ручонку. Потом мне в Бутырках не раз бывало и страшно, и горько, и тяжко, я терпел лишения, но с той минуты я больше ни разу не впал в уныние.
На нарах многим не было места. На ночь из-под нар выдвигались деревянные щиты, и новички укладывались на них вповалку. Я лег в пальто, под голову подложил кепку и, истомленный, но и успокоенный, заснул.
Спанье на щитах было неудобно еще и тем, что около шести утра всех нас будил предупреждающий стук ключа в дверь. Поверка!.. В камеру входил корпусной начальник, коридорный останавливался в дверях, а корпусной пересчитывал выстроившихся справа и слева в две шеренги заключенных: одни стояли на нарах, другие на полу. После поверки те, у кого было место на нарах, могли еще поспать до чаю, а новички были обречены на слонянье, хотя у них с недосыпу слипались веки.
Одно из неписаных правил тюремного общежития состояло в следующем: по мере того, как кто-нибудь вызывался для выслушиванья приговора и отправлялся на этап или же выходил на волю и место его на нарах освобождалось, лежавшие на нарах передвигались на одно место ближе к окну, где воздух был свежее, а тот, кто дольше других провалялся на щите, переезжал на новоселье – на крайнее, ближайшее к двери место на нарах. Если освобождалось место справа от выхода, то «щитнику» везло, если же слева, то он был обречен круглые сутки дышать вонью стоявшей рядом «параши» – до очередной подвижки.
И потекли бутырские дни моей жизни…
Утром – поверка. Потом – всей камерой – в правый конец коридора – оправляться и умываться; двое дежурных заключенных выносили за ночь наполнившуюся доверху «парашу». Потом ты получал «пайку» хлеба, которую нужно было растянуть на целый день, потом – жидкий сладковатый чай. А потом – до самого обеда – делай что хочешь, почти как в Телемской обители у Рабле. На обед – баланда и каша» чаще всего – пшенная. Только 7 ноября нам дали рыбы и белого хлеба. На ужин опять каша и чай. После ужина – вторая поверка. Одно из утренних развлечений – дезинфектор, приходивший опрыскивать каким-то составом «парашу». Мы его с комической почтительностью называли «доктор». Кого-то – чаще всего ранним вечером – вызывали на допрос. Кого-то коридорный, держа в руках синий билетик, днем, часа в 4 – в 5, вызывал: «Такой-то!» «Такой-то» отвечал: «Здесь», – «Имя-отчество?» – «Так-то и так-то». – «С вещами соберитесь». И цвет билета, и время дня были дурными знаками: значит, вызывают для объявления приговора, вынесенного заочно, Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Ведь тогда нас женило без нас так называемое Особое совещание. Наиболее важные, с точки зрения ОГПУ, дела выносились на Коллегию. И только над лицами, которых Сталин находил для себя нужным судить публично, инсценировался суд с обвинительным заключением, публично даваемыми показаниями подсудимых, показаниями свидетелей, прениями сторон – словом, со всей процедурой всамделишного суда. В республиканских и краевых центрах тоже судили заочно так называемые «тройки». Выслушав приговор» подследственный превращался в осужденного» и его вели в помещение, в котором «набирался» этап» направлявшийся в те края, где, согласно приговору, осужденному надлежало отбывать срок наказания «Иногда вызывали поздним вечером по белому билетику. В камере возникало радостно-завистливое оживление: значит, на волю!.. Дрожащими, непослушными от счастья и от страха руками собирал свои манатки вызванный, а в это время товарищи наперерыв пытались вколотить ему в память адреса своих родных, чтобы он навестил их, и уговаривались, чтобы родные в знак того, что он у них был, положили им в следующую передачу» скажем, две луковицы или одну головку чесноку. Новичков чаще всего приводили утром. Каждый день перед обедом – прогулка по тюремному двору. Часовые во время прогулок не требовали от нас воинского повиновения. Мы ходили «вольно», не равняясь «в затылок». Из окон других камер заключенные, найдя среди нас своих «однодельцев» или знакомых, что-то кричали, показывали на пальцах, какой у них пункт обвинения. Двадцать лет спустя я узнал, что мне безуспешно делал знаки Виктор Яльмарович, – я его так и не заметил. Раз в неделю – баня. В бане наши носильные вещи подвергались выпариванию и дезинфекции. Когда мы возвращались в камеру, здесь тоже едко воняло карболкой. Я до сих пор не переношу этот запах – он стал для меня запахом неволи.

Третий том воспоминаний Николая Михайловича Любимова (1912—1992), известного переводчика Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя главу о Пастернаке, о священнослужителях и их судьбах в страшные советские годы, о церковном пении, театре и литературных концертах 20—30-х годов ХХ века. В качестве приложения печатается словарь, над которым Н.М.Любимов работал всю свою литературную жизнь.
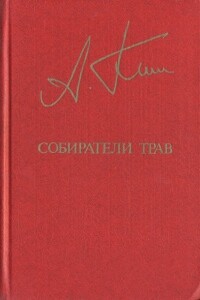
Анатолия Кима трудно цитировать. Трудно хотя бы потому, что он сам провоцирует на определенные цитаты, концентрируя в них концепцию мира. Трудно уйти от этих ловушек. А представленная отдельными цитатами, его проза иной раз может произвести впечатление ложной многозначительности, перенасыщенности патетикой.Патетический тон его повествования крепко связан с условностью действия, с яростным и радостным восприятием человеческого бытия как вечно живого мифа. Сотворенный им собственный неповторимый мир уже не может существовать вне высокого пафоса слов.Потому что его проза — призыв к единству людей, связанных вместе самим существованием человечества.
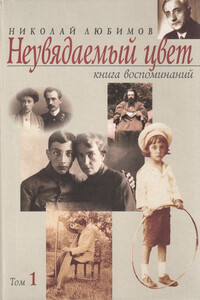
В книгу вошли воспоминания старейшего русского переводчика Николая Любимова (1912–1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей. Эти воспоминания – о детстве и ранней юности, проведенных в уездном городке Калужской губернии. Мир дореволюционной российской провинции, ее культура, ее люди – учителя, духовенство, крестьяне – описываются автором с любовью и горячей признательностью, живыми и точными художественными штрихами.Вторая часть воспоминаний – о Москве конца 20-х–начала 30-х годов, о встречах с великими актерами В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.