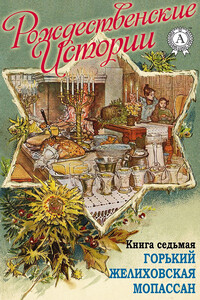Курнашов заговорил тише, как бы воркуя:
- Ножки голенькие видно, ласковые - даже вспомнить сладко. Женщину бить - это, сударь мой, большущее удовольствие! И не столько бить, сколько жалеть избитую, - это, знаете, ох как за сердце берёт! Лежит она эдакая обиженная, замученная, а я вспоминаю, как меня обижали да мучили в разное время, - плачет сердце. Ей-богу... плакал ведь я над ней, - что вы думаете? - как маленький плакал! Да. Ноги её глажу, бывало, целовать начну, утешаю всяко, даже прощенья просил сколько раз. "Ты, - говорю, - прости меня, ведь меня тоже мучили и били, и всё". Это она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. И вижу - всё хуже да хуже задумывается, а глаза блестят эдак... Ничего не обнаруживает, а я понимаю, что стала она гордиться своей жизнью, то есть тем, что бью её и тревожу. Как мальчишка этот, - я её по щеке, а она мне в глаза смотрит. "Вот как? - думаю. - Ну, этим меня не одолеешь, я не хуже других... Эту игру я знаю!"
Пошмыгав носом, поморщась, Курнашов торопливо докончил:
- Однако заигрались мы с ней вплоть донельзя. Весною, в апреле, проснулся я, чуть солнышко взошло, утро весёлое, - а её нет рядом со мною. Сразу понял я, что это нехорошо, вскочил, бегу на чердак, а она висит, заслонив собой слуховое окно, и пальцами на ногах шевелит. Обомлел я, ни крикнуть, ни двинуться, стою и гляжу, как она крутится.
Он замолчал, вынул папиросу, дважды глухо кашлянул.
- Ну, и что же? - спросил я с трудом.
- Что же... конечно: признаю себя виновным...
Мне захотелось ударить его кулаком по маленькой узколобой головке, но его копчёное лицо было до такой степени искажено болью, так кричало, что мне снова показалось - вот сейчас этот человек безумно завоет, завизжит и покатится по земле, как собака, накормленная иголками.
Я отвернулся, а он грубо сказал:
- Вот и весь мой праздник... всё тут! Жил я с ней двадцать месяцев и девять дён. А после её - ещё дальше отшибло меня ото всего. Ну, вот...
Курнашов встал, оглянулся, как чужой, и пошёл к воротам, где серые фигуры арестантов сбились в тесной куче.
Ночью, долго спустя после поверки, он неслышно очутился у двери моей камеры и спросил в глазок:
- Не спите?
- Нет.
- Чего же?
- Думаю.
Он пошаркал ногами и, невидимый мне, сказал в глазок, как в рупор:
- Вот вы всё внушаете - учиться надо, а чему у людей научишься? Не согласен я с вами, ни в чём не согласен...
Исчез.
Я долго слушал - не родится ли какой-нибудь звук, мне почему-то думалось, что сейчас хлопнет выстрел револьвера. Медленно тянулись минуты, тёмные и тихие, как монашенки. Потом я вспомнил слова Аристотеля:
"Кто не может жить в обществе, тот не составляет никакой части государства и есть или зверь, или бог".
Сквозь грязные стёкла окна трепетно-яркие звёзды кажутся тусклыми и круглыми, как фальшивые жемчужины. Я встал на подоконник и начал протирать стёкла рукавом рубахи.
1916 г.