Неразлучники - [10]
– Ничего, родной мой! Пройдет, ужо поотлежусь… – успокаивал его старик. – Простудился, видно, маленько, как вчера на колокольню лазил. Не кручинься, живо поправлюсь… Ведь уж без болезни не проживешь!
– Батя, батя! – волновался юноша, ломая руки и в отчаянии низко свешивая на грудь старика свою белокурую голову. – Ведь ты не умрешь, не умрешь? Да?
– Нет, голубчик, не умру… почто! – говорил тот. – Не такая у меня болезнь! Вот завтра ужо к утру и встану, как ни в чем не бывало!
В это время Вася не ел, не спал, не знал покоя ни днем, ни ночью – и страдал не меньше самого больного. Зато же как и радовался он, когда старик выздоравливал.
– Ну, вот и отлично! – приговаривал Вася, ласково гладя его по плечу. – Ай, да батя! какой ты хороший…
Вася прихварывал редко, но во время его болезни старик так же ухаживал за ним, как за любимым сыном, так же беспокоился, не спал ночи, плакал над своим детищем и сам едва держался на ногах от тревоги и усталости. Слепые даже были не в состоянии представить себе, что они могли обойтись один без другого. Это было для них решительно немыслимо, невозможно… Жили-были на свете сиамские близнецы, два сросшихся человека, которые думали и чувствовали заодно, заодно болели, заодно радовались и печалились. Наши слепые были своего рода сиамские близнецы – близнецы не в физическом, но в нравственном смысле. Души их сблизились, сроднились… Они не могли быть счастливы и довольны друг без друга, они не могли жить вдали один от другого… Люди, довольные, счастливые, избалованные жизнью, люди, у которых было много друзей и много всяких радостей, даже не поймут, как была велика и сильна любовь этих несчастных слепых друг ко другу. О людях, живущих дружно, говорят: «Они живут душа в душу!» Эти слова всего более шли к нашим слепым, к братанам-неразлучникам. Они не видели, но чувствовали друг друга… Они по инстинкту угадывали, когда один из них беспокоился о чем-нибудь или чувствовал себя неловко, нуждался в чем-нибудь. Они иногда задумывались об одном и том же, желали одного и того же. Так, например, не раз они сталкивались у печки с дровами. И тот и другой в одно и то же время задумывал топить печь, и, чтобы не беспокоить сожителя, каждый из них, не говоря ни слова, хотел сам потихоньку затопить печку.
– Вася! Ты это что? – спрашивал старик, ощупывая принесенные Васей дрова.
– А я собираюсь печь топить! – отвечал тот.
– Гм! А я было тоже за тем же сюда прилез… – с усмешкой говорил старик. – Ну! Оставлю свои дрова тут… до другого раза! Пригодятся…
– Пригодятся… Оставь! – соглашался Вася.
Иной раз, не сговариваясь, они разом начинали укладываться спать, в одно время принимались мести каморку.
– Ты что, Вася, примолк? – спросит иногда старик.
– Что-то тоскливо, батя! – ответит тот и тихо вздохнет. А старик между тем сам уже ранее закручинился. Иногда, не говоря ни слова, они сидели за работой и оба улыбались, видимо, совершенно довольные сами собой в те минуты. Наконец, братаны даже перестали и удивляться тому, что они заодно думали и чувствовали. Для них показалось бы странно, если бы было иначе. Они представлялись как бы одним человеком в двух лицах, как будто один человек был расколот надвое: одна половина была старческая, другая – молодая. Так же точно все их помыслы и чувства казались расколоты надвое, и при этом каждый из них дополнял другого.
– Ой, дитятко мое милое, – скорбно говаривал старик, – плох я становлюсь… Боюсь, как бы нам разлучиться не пришлось, останешься ты без меня сиротинушкой…
– Нет, батя! Не придется… – спокойно замечал юноша.
И в те минуты какая-то торжественная уверенность звучала в его голосе, светилась в его милой, кроткой улыбке, выражалась во всем его лице.
На этот раз судьба исполнила человеческое желание…
Была весна в полном разгаре. Леса стояли в свежем зеленом уборе, в полях и лугах пестрели цветы. По праздникам девушки в нарядных красных сарафанах гуляли по лугам, рвали цветы и плели себе из них венки. Девушки порой запевали песни, и протяжные, переливчатые звуки их песен долетали до церковной сторожки, и слепые, сидя у раскрытого окна, прислушивались к ним.
– Девушки песни поют! – говорил старик и подолгу сидел неподвижно, понурив голову.
А юноша облокачивался на окно, склонял голову на руки и с какой-то жадностью, с грустью и отрадой внимал этим песням. Губы его полураскрыты, на щеках – румянец… Затаив дыхание, прислушивается он к звонким молодым голосам. Он отрезан, отчужден от этого веселья, но может наслаждаться им издали по слуху…
XII
Наступил праздник Всех Святых.
Сторож был чем-то занят в церкви и попросил братанов сходить за него на колокольню – поблаговестить к обедне. Слепые никогда не отказывались от этого и с удовольствием ползали на колокольню летом и зимой. Когда теперь сторож предложил слепым идти благовестить к обедне, юноша весело поднялся с лавки.
– Пойдем, батя! Пойдем! – радостно вскричал он. – Уж поздно же я сегодня…
Только, братцы, у правого колокола веревка перервалась! – заметил Иван. – Надо будет вязать ее…
Ну, что ж! Свяжем… Ведь не в первый раз! – отозвался старик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Вдруг ветер с такой силой ударил ее, что девочка невольно протянула руки вперед, чтобы не упасть, и кулак ее правой руки разжался на мгновение. Девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец, она опустилась на колени и своими худенькими посиневшими ручонками стала шарить по сугробу. Через минуту пушистый снег уже покрывал ей голову, плечи и грудь, и девочка стала похожа на снежную статую с живым человеческим лицом. Она долго искала чего-то, долго рылась в снегу…».

«…Нежно, любовно звучала арфа в его руках. И стар и мал заслушивались ее. Даже жесткие, черствые люди, казалось, дотоле жившие на свете только для одного зла, на горе ближним и себе, приходили от нее в восторг и умиленье… В потемки самой порочной души арфа вносила свет и радость, раздувая искру божию, невидимо для людей тлевшую в них под пеплом всякой житейской мерзости…».

«…Однажды ночью бродил он под лесом, прислушиваясь и нюхая. И вдруг почуял он неподалеку запах падали. Конечно, падаль не то, что свежее мясцо, но за неимением лучшего и оно годится… Осторожно крадучись, озираясь, подходит волк и видит: лежит дохлая лошадь, худая, тощая, бока у нее впалые, – все ребра знать, – а голова почти совсем зарылась в снег…».

«…Старуха усмехнулась. Ринальд внимательно посмотрел на нее, на ее выпрямившийся стан и на серьезное лицо. И вдруг припомнились ему слышанные в детстве от матери песенки и сказки про добрых и злых духов, да про волшебниц; ожила в нем на мгновенье прежняя детская вера в чудеса, – сердце его ёкнуло и сильно забилось…».

«…Однажды, когда мужа не было дома, когда он, по его словам, отправился на охоту, Азальгеш прикрепила один конец лестницы в амбразуре окна, другой сбросила вниз и по этой тонкой, паутинной лестнице смело и быстро спустилась наземь. Потом она перешла Юрзуф вброд в том месте, где река была мелка и каменисто ее дно…».
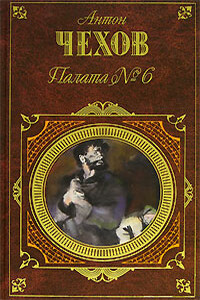
В книгу вошли повести А.П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.
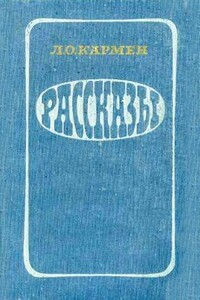
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи.
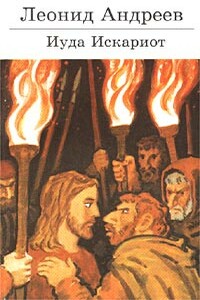
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.