НепрОстые - [4]
Анне очень нравилось, что писал Бэда на обертках, которые еще пахли разными фруктовыми чаями.
Генетически
1. Франциск считал себя человеком поверхностным. Любил поверхности. Чувствовал себя на них уверенно. Не знал, есть ли смысл влезать глубже, чем видит глаз. Хотя всегда прислушивался к тому, что звучало за любыми спорами. И принюхивался к испарениям, исходившим из пор. Присматривался к каждому движению, но, глядя на кого-нибудь, не пытался представить себе – что кто думает. Не мог проанализировать сущность, потому что переполненность внешними деталями давала достаточно ответов. Он не раз замечал, что полностью удовлетворяется теми объяснениями разных явлений, которые позволяют себя увидеть, не требуя доступа к знанию о глубинных связях между вещами. Чаще всего он пользовался простейшей фигурою мышления – аналогией. Преимущественно думал про то, что на что похоже. Точнее – что напоминает что. Тут он перемешивал формы со вкусами, звуки с запахами, черты с прикосновениями, ощущения внутренних органов с теплом и холодом.
2. Но один философский вопрос интересовал его по-настоящему.
Франц раздумывал про редукцию. Его завораживало, как огромная человечья жизнь, бесконечность наполненных бесконечностью секунд, постепенно может редуцироваться до нескольких слов, которыми, например, сказано все про этого человека в энциклопедии (из всех книг Франц признавал только энциклопедический словарь Лярусса, и его библиотека состояла из нескольких десятков доступных ляруссовских переизданий).
Одним из его развлечений было постоянное придумывание статей из нескольких слов или изречений в стиле Лярусса – про всех, кого он знал или встречал. Статьи о себе он даже записывал. За эти годы их набралось несколько сотен. И хотя в каждой находилось что-то, отличающее ее от других, все же его – пусть еще не законченная – жизнь вмещалась в сколько-то десятков хорошо организованных слов. Это воодушевляло Франца и, не переставая удивлять, давало надежду на то, что жить так, как он – вполне хорошо.
3. Еще одним доказательством его личной поверхностности было то, что Франциск ничего не знал про свой род. Даже про отца и маму знал только виденное в детстве. Они почему-то ни разу не говорили с ним о прошлом, а он не додумался хоть о чем-то спросить. Все детство знай себе рисовал в одиночестве все, на что смотрел. Родители умерли без него, у него тогда уже был свой учитель в другом городе. В конце концов как-то Франциск понял, что ни разу, даже в первые годы жизни, не нарисовал ни маму, ни отца. Редукция их была почти абсолютной.
Может, именно страх продолжения такой пустоты заставил его рассказывать дочке как можно больше всякого-разного о себе. Даже про сотворение мира он старался поведать так, чтобы Анна всегда помнила: про то или другое ей впервые рассказал папа.
Хотя про ее маму – его Анну – он тоже знал только то, что пережил вместе с ней – чуть больше, чем два года. Но этого было достаточно, чтобы девочка знала про маму все, что следует.
А за всю свою жизнь – кроме последних нескольких месяцев – Анна и одного дня не прожила без отца. Даже после того, как стала женой Себастьяна.
4. В сентябре 1914 года она добровольно пошла в армию и после нескольких недель обучения попала на фронт в Восточной Галичине. Себастьян с Франциском остались одни в доме недалеко от главной улочки Яливца. С фронта не было никаких вестей. Лишь весной 1915 в город пришел курьер и передал Себастьяну (Францу отрубили голову за день до этого, и завтра должы были состояться похороны) младенца – дочку героической вольнонаемной Анны Яливцовской. Себастьян так и не узнал, когда точно родилось дитя и что делала беременная Анна в самых страшных битвах мировой войны. Но точно знал – это его ребенок. Назвал ее Анной, точнее – второй Анной (и уже после ее смерти он часто говорил про нее просто – вторая).
5. Вторая Анна все больше становилась похожа на первую. Действительно ли они обе были похожи на самую первую – это мог знать только старый Бэда. Что до Себастьяна, то он приучился ежедневно сравнивать себя с Франциском.
Он сам воспитывал свою Анну, не допуская к ней никаких женщин. В конце концов случилось так, что восемнадцатилетняя Анна самостоятельно выбрала себе мужа. Им был, конечно, Себастьян.
6. На сей раз не было такого, чего бы он не знал про беременность своей жены. В конце концов, только он и присутствовал при рождении их дочки и – одновременно – родной внучки. И Себастьян видел, как рождение стало концом истории. Потому что в начале следующей его самая родная вторая Анна умерла за минуту перед тем, как третья оказалась у него на руках.
Где-то в своих горьких глубинах Себастьян ощутил безумное скручивание и расправление подземных вод, замалевывание и стирание миров, превращение двадцати предыдущих лет в семя. Он подумал, что не нужно никаких Непростых, чтобы понять, что такое уже когда-то с ним было, а с новорожденной женщиной он доживет до подобного завершения. Что дело не в удивительной крови женщин этой семьи, а в его неудержимом стремлении влиться в нее. Что не они должны умирать молодыми, а он не имеет права видеть их больше, чем по одной.
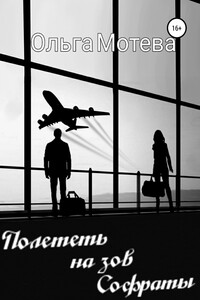
Отправляясь в небольшую командировку в Болгарию, россиянка Инга не подозревала о том, что её ждут приключения, удивительные знакомства, столкновения с мистикой… Подстерегающие опасности и неожиданные развязки сложных ситуаций дают ей возможность приблизиться к некоторым открытиям, а возможно, и новым отношениям… Автор романа – Ольга Мотева, дипломант международного конкурса «Новые имена» (2018), лауреат Международного литературного конкурса «История и Легенды» (2019), член Международного Союза писателей (КМ)
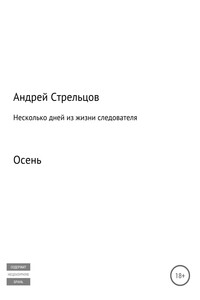
Жизнь и приключения девушки-следователя в текущей реальности и в её представлениях о ней. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
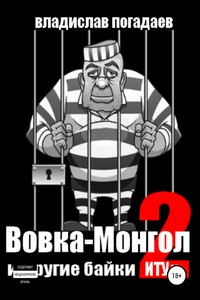
Этот сборник включает в себя несколько историй, герои которых так или иначе оказались связаны с местами лишения свободы. Рассказы основаны на реальных событиях, имена и фамилии персонажей изменены. Содержит нецензурную брань единичными вкраплениями, так как из песни слов не выкинешь. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
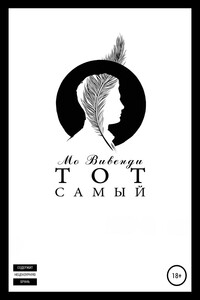
Я бы мог найти десятки причин, почему никогда не был счастлив здесь и сейчас. Такова моя жизнь: она предоставляла мне уйму вариантов, но я всегда выбирал самый худший из них. Родиться в семье Граниных, возможно, не было самым худшим вариантом, но и назвать это путёвкой в счастливую жизнь трудно. Одно короткое лето перевернуло мои представления о мире с ног на голову. Мир соприкоснулся со мной, а я – с ним. Это мгновение навсегда изменило меня. В оформлении обложки использована фотография автора Ben Sweet c сайта unsplash. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019».
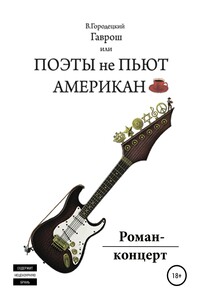
Современная увлекательная проза, в которой знатоки музыки без труда узнают многих героев рок-н-ролла. А те, кто с роком не знаком, получат удовольствие от веселых историй, связанных с познанием творчества как такового, а порой просто веселых и смешных. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
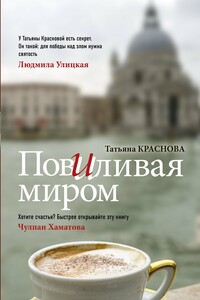
Татьяна Краснова написала удивительную, тонкую и нежную книгу. В ней шорох теплого прибоя и гомон университетских коридоров, разухабистость Москвы 90-ых и благородная суета неспящей Венеции. Эпизоды быстротечной жизни, грустные и забавные, нанизаны на нить, словно яркие фонарики. Это настоящие истории для души, истории, которые будят в читателе спокойную и мягкую любовь к жизни. Если вы искали книгу, которая вдохновит вас жить, – вы держите ее в руках.