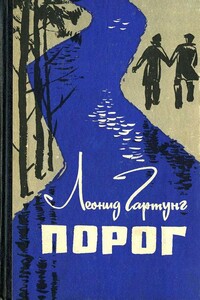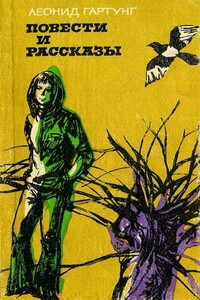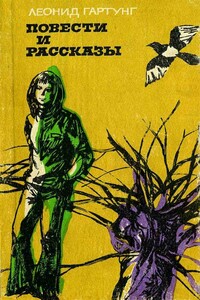— Сходи с ней… Мало ли что?
Не знаю, чего она опасалась, но понял, что мама считает меня взрослым.
До кладбища мы шли молча. Так же молча стали ходить между могилами. Потом Нюра села на заметенную снегом скамью. И я примостился рядом. Мы оба очень устали. Кладбище находилось далеко, а сил у нас было совсем мало. Потом опять долго ходили и искали Светкину могилу, но найти так и не смогли. Когда-то она была с краю, а теперь здесь было много новых могил. Наконец Нюра сказала:
— Ничего мы не найдем. Все замело…
Второй раз мы пошли, когда совсем растаял снег. И опять не нашли. Наткнулись на одну похожую. Нюра даже стала подправлять, а потом бросила:
— Нет, не эта… Там рядом черемуха росла.
И тут Нюра заплакала. До тех пор я никогда не видел ее слез. Может быть, это и случалось с ней, когда она была маленькая, но меня самого тогда не было.
У переезда Нюра остановилась, достала платок и вытерла лицо.
Еще раз пошли в конце мая, вместе с мамой. По лицу Нюры и по тому безразличию, с каким она шла, я понял, что на этот раз она нисколько не надеется найти, а идет так просто, потому что надо идти. Мама же почему-то была уверена, что найдет могилку. Она заранее припасла какие-то продолговатые луковички, чтобы посадить на могилке. Нюре сказала:
— Возьми лопату.
— Тот раз зря носила…
— Возьми.
Мама и правда нашла. Не плутала по кладбищу, не искала, а сразу привела нас куда надо, к цветущей черемухе. Светкина могила опустилась и почти сравнялась с землей. Мама насыпала новый холмик, посадила луковицы и сказала, что летом расцветут лилии. Тут Нюра заплакала еще раз — теперь от радости, что нашли Светкину могилку.
* * *
Мать Сережи и Зои — Лариса Антоновна — была много моложе моей мамы и потому у нас в семье ее звали просто Ларой. Месяц она искала работу по специальности, но стенографистки нигде не требовались и в конце концов поступила работать на нашу мебельную фабрику. Жаловалась моей маме, что потеряет скорость… Непонятно, как это можно потерять скорость? Что она, шофер, что ли?
Мама успокаивала ее как могла:
— Скорость — дело наживное… Вот вернешься домой…
— Все равно без Миши…
Это Лара говорила о муже. О нем она тосковала и часто плакала:
— Не могу представить, что его нет. Как я буду жить?
Мама неумело успокаивала:
— Так и будешь жить, пока не помрешь.
Лара продолжала жаловаться:
— Никому я не нужна…
Мама спокойно возражала:
— Всем нужна. И Сереже, и Зое, и нам…
Серега рассказывал мне, как погиб его отец. В первый же день войны, в Минске, их отца убило немецкой бомбой, а Зое раздробило ступню правой ноги. (Как-то я спросил ее, кем она собирается стать. Она ответила мне: «Как мама — стенографисткой» и показала книжки с какими-то мудреными значками.)
Когда Зоя играла с нами, то отбрасывала свои костыльки в сторону и так увлекалась, что забывала о своем увечье. И мы делали вид, что она ничем от нас не отличается — играли даже в догоняшки, она бегала на четвереньках и хохотала, когда ей удавалось схватить кого-нибудь из нас. Конечно, мы немного поддавались, но так, чтобы она не замечала. Беда, если мы не умели этого скрыть. Тогда она сердилась, кидалась драться и кричала:
— Бессовестные! Как вам не стыдно?!
* * *
И вдруг — великая радость! Пришло письмо от отца. Он был ранен в плечо. Сейчас писал из госпиталя. Мы всей семьей написали ему ответ — описали все подробно, только ничего не написали о гибели Гриши. Пусть он пока думает, что сын тоже сражается с общим врагом…
* * *
Еще до уроков по всем классам разнесся слух, что школу забирают под госпиталь. Помню, мы гордились, что наша школа оказалась подходящей для такого важного дела (значит, и мы немножко воюем!) И вместе с тем было ее жалко.
Уже во время первого урока в наш класс вошли двое военных и с ними Иван Михайлович. У Ивана Михайловича было растерянное выражение лица. Из военных один был высокий, с молодым лицом, но совсем седой. Говорили тихо, но мы все же услышали, как тот, который пониже, прошептал:
— Белить будем заново.
— Конечно.
— А как общее впечатление?
Высокий военный произнес:
— Пойдет…
И это короткое слово решило судьбу нашей школы.
Перевозили все имущество на лошадях. Старшеклассники грузили на телеги парты и шкафы. При этом они держались очень важно и покрикивали на нас:
— Эй, мелкота, а ну-ка из-под ног!
А нам тоже хватало работы. Я сходил в новую школу несколько раз: унес два глобуса, затем какие-то физические приборы со стрелками, потом два рулона географических карт.
Мы растянулись по всей улице — кто нес чучела из биологического кабинета, кто исторические картины, а Сереге досталось нести самый настоящий скелет, точно такой, какой нагнал на меня страху в Алмазове. Сережка пугал этим скелетом девчонок, те визжали. Удивительная привычка — визжать!
К вечеру мы все перетаскали в новое помещение.
Новая школа. Ее и школой-то назвать трудно — несколько одноэтажных домиков на берегу Томи.
А в прежней школе появились новые хозяева. В воскресенье вечером мы влезли в открытое окно нашего бывшего четвертого класса. Парты увезли, классную доску — тоже. Стены и потолок были только что побелены и местами еще не успели высохнуть. На чисто вымытом полу стояли застеленные серыми одеялами железные кровати.