Некто Финкельмайер - [24]
После концерта мой редактор, суетясь и подхихикивая, начал плести, что товарищи писатели, мол, устали, что творческие силы нужно физически, так сказать, поддерживать…
— Идем на упой? — перебил самый знаменитый и тоненько загыгыкал. — На упой, на упой, братие! — кликнул он остальных, и мы двинулись к офицерской столовке. Мы — это писатели, пара генералов, полковники, еще кое-кто из начальства и несколько человек от многотиражки. Меня с самого начала, едва эти писатели появились, представили им как поэта, почему я и сейчас оказался в числе избранных.
Сел я за стол рядом с одним из гостей, по возрасту с самым старшим из них и, как мне показалось, самым симпатичным. Печататься он начал еще до революции, кажется, одновременно с Маяковским или чуть позже, был среди конструктивистов, потом надолго умолк, и время от времени появлялись только его французские переводы; с началом войны вновь стал печататься, выпустил за последние годы несколько книжек. Сейчас он глубокий старик, мэтр, я, когда вижусь с ним, так и зову его — Мэтр, он окружен молодежью, знаменит и — несчастлив: постоянно зависит от капризов сестры, с которой живет в одной квартире, болен, слаб… Но все так же парадоксален в суждениях, остер на язык и иногда неплохо пишет.
Тогда же, сидя рядом с ним за столом, я ничего о Мэтре не знал, его имя и его стихи услышал впервые лишь накануне, с эстрады. Он читал — читал не так, как остальные, а читал просто, с достоинством, и чуть-чуть насмешливо, хотя стихи были серьезные. Может быть, я и подсел к нему, почувствовав, что Мэтр не сухарь и не такой самовлюбленный барин, как его спутники. На правах хозяина я за Мэтром ухаживал — подливал, подкладывал, советовал то селедочку, то грибочки. Он пожаловался на свою печень, я посочувствовал — знаю, мол, что это такое, у матери моей то же самое… После многих тостов, когда за столом все слилось уже в пьяный шум и офицерье давно расстегнуло кителя, Мэтр, тоже ставший весьма хорош, вдруг, блестя глазом, подозрительно на меня посмотрел и покачал жирной вилкой перед самым моим носом.
— А ведь говно! — сказал он.
— Что — говно?
— Твои стихи.
— А, — говорю. — Конечно, говно. Но ведь то, что вон этот сочиняет, — я кивнул на одного из поэтов, — разве не говно?
— Молодец, — говорит Мэтр. — Умеешь отличать говно от говна. Редкое достоинство, мальчик!
— Умею, — отвечаю ему. — Я даже умею отличать говно от чего-нибудь получше.
— О! Что же на твой вкус лучше говна?
— А вот хотя бы…
И я ему повторил его же стихи, да еще постарался скопировать его манеру чтения. Мэтр поразился, что я их запомнил, и, конечно, был польщен. Стал расспрашивать, кто я, откуда, как попал в многотиражку. Спросил, много ли я читаю. Выяснилось, что в знании поэзии я не пошел дальше школьной программы, то есть, кроме трех китов русской классики — Пушкина, Лермонтова и Некрасова, мне знаком великий поэт пролетарской эпохи В.В. Маяковский — и только.
«А Баратынский? А Фет? Полонский? Тютчев? Блок? Блока не знаешь?!»
— Эй, господа гусары! — избычившись, краснея от прилива крови, хрипло заорал он, стал подниматься, и его стул с грохотом опрокинулся. — Заткните ваши глотки! Я расскажу вам о горькой судьбе русской поэзии!
За столом стихло, все напряженно смотрели в нашу сторону. Только самый знаменитый делал вид, что ничего не замечает, и продолжал что-то пожирать, чавкая, как боров.
Мэтр ткнул пальцем в его сторону, покачнулся, чуть не упал и с ненавистью начал выкрикивать:
— Ты!.. Прекратить!.. Поджигатель! Смотрите все: поджигатель! Сидит и ест! Прекратить!
Знаменитый был настолько знаменитый, что пьяная выходка ничуть его не смутила, хотя, если ты помнишь, слово «поджигатель» звучало тогда очень оскорбительно. Жуя очередной кусок, боров укоризненно спросил:
— Дорогой, зачем же так? — У него был гладко смазанный, липкий тенорок. — Нехорошо. Разве я что-нибудь поджег? А?
На Руси считается последним делом куражиться над подвыпившим, раззадоривать его, словом, выставлять его на посмешище. Однако борову было наплевать на неписаные законы, ему хотелось малость потешиться над своим более талантливым, но неудачливым коллегой.
— Что же я поджег? Ну? — настойчиво интересовался он, разделываясь с курьей ножкой.
Все чувствовали неловкость, так как понимали, что он издевается, сводит какие-то счеты. Понял это и пьяный Мэтр.
— Поджег, — тихо сказал он. — Шахматово. Имение Александра Александровича. Всю его библиотеку… ты сжег!.. Дотла!.. пепел!.. Пеплом книг посыпаю главу свою… Горькой судьбой поэзии нашей!.. У меня… пока был на фронте… — Он опять закричал: — Ты и такие!.. Варвары!.. Истопили мои книги! Три тыщи томов! В Москве! Поджигатель!
— Позвольте!.. Он пьян! Вы не видите? — опомнился наконец знаменитый и задвигал толстой шеей, ища сочувствия, но на него старались не смотреть. Все разом заволновались, я вскочил, обнял Мэтра со спины, на помощь поспешил еще кто-то из газетных, мы повели поэта к выходу. На крыльце опалило сухим ночным морозом, я сказал своему редакционному сослуживцу, чтобы он вернулся и взял с вешалки пальто Мэтра. Когда сзади хлопнула дверь, Мэтр вдруг мелко-мелко засмеялся и уверенно высвободился из моих объятий. Он протрезвел мгновенно.
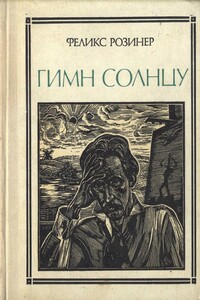
Повесть о литовском художнике и композиторе Микалоюсе Константинасе Чюрленисе. В книге повествуется о жизни этого замечательного человека, дается искусствоведческий анализ произведений великого мастера. Книга иллюстрирована работами М. К. Чюрлениса. Издается к 100-летию со дня его рождения.

Повесть о Сергее Прокофьеве — советском композиторе, величайшем новаторе искусства XX века, создателе выдающихся музыкальных полотен «Александр Невский», «Иван Грозный», многочисленных симфоний, балетов, опер. С. Прокофьев стоял у истоков создания первого в мире детского музыкального театра.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
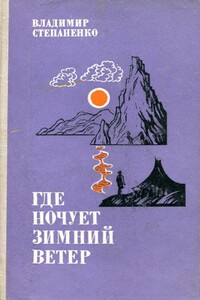
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.


